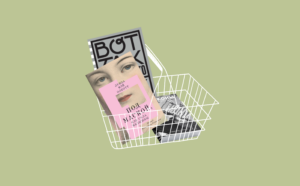Интервью: Ляля Кандаурова
Фото: Мария Троянкер
Самый известный писатель современного Израиля — Меир Шалев — жил в деревне Алоней-Абба на севере Израиля, в маленьком, утонувшем в диких цветах доме с балконом, садом и кошкой по имени Пицца. Сто лет назад красивые, крепкие дома из светлого камня в ней построили немцы-колонисты — темплеры, которые разводили коров и выращивали оливки на Святой Земле. На стене его дома — табличка «Улица Ицхака Шалева, ученого и учителя»: в Иерусалиме в честь отца писателя действительно названа улица, и он попросил, чтобы ему подарили одну из табличек. Каменная стена в саду сложена из обтесанных молочно-белых камней, собранных им в путешествиях по Израилю — от Негева до Голанских высот — и привезенных в пикапе: как сказал Шалев — чтобы запутать археологов лет через тысячу. Он сам ухаживал за большим диким садом вокруг своего дома — только когда что-то требовало больших физических сил, ему помогал сын.
— В вашей книге «Как несколько дней…» есть фраза, которую часто цитируют: «Судьба никогда не преподносит сюрпризы». Мол, следи внимательно, и заметишь, что она готовит тебе. Вы планировали стать писателем?
— Господь не просто путает твои планы, он как будто правда этим наслаждается. Мой первый роман был напечатан, когда мне было сорок. Тогда я работал на израильском телевидении в течение десяти лет, у меня было свое ток-шоу, я был известным человеком. В какой-то момент мне страшно разонравилась моя работа. Во-первых, я интервьюировал людей, с которыми ни за что бы не стал разговаривать в жизни, а во-вторых меня не покидало ощущение, что эта известность случилась просто потому, что мое лицо оказалось в ящике. Например, мой отец был учителем, ученым и поэтом, и его не знал никто — хотя то, что делал он, было гораздо важнее. Тогда я ушел с работы; родители, жена, друзья — все были в ужасе. Поскольку надо было на что-то жить, я стал придумывать варианты. Их было три: во-первых, мне хотелось стать зоологом, однако начать серьезную научную карьеру в сорок почти невозможно. Второе — учителем: профессия, которую я бесконечно уважаю и которой восхищаюсь. Учителями были мои родители, и, думаю, у меня тоже получилось бы хорошо: я мог преподавать литературу, Библию, грамматику иврита или что угодно самым младшим детям. Но потом я понял, что мне не хватило бы терпения; педагогические способности у меня есть, а вот терпения — нет. Третье — можно было написать роман. У меня хороший, богатый иврит, я знаю, как складывать слова в предложения. Тогда я, правда, понятия не имел о том, как выстроить форму романа, что невероятно сложно. Словом, я взял себе год и решил написать первый роман, сказав себе, что если через год у меня будет — нет, не книга, но хотя бы некая критическая масса, — то так тому и быть. Этой книгой стал «Русский роман», за которым сразу последовал «Эсав» — самая дорогая мне из написанных книг.
— Ваше детство было похожим на детство ваших героев?
— Скорее нет, потому что мои герои принадлежат поколению моих родителей и бабушек. Однако тем же был ландшафт: это Изреельская долина, очень особое место. Я родился в деревне, но большую часть детства провел все же в Иерусалиме. С тринадцати лет начал приезжать к своим дядям каждые лето и весну, когда у нас большие праздники, чтобы работать на земле. Как раз тогда трактор стал замещать лошадь, и я знал, как управляться с одним и другим. Для деревенских мальчиков, правда, я все равно был городским: не таким сильным, рослым и загорелым, как они, а главное — я носил очки, что по их меркам было приговором. Мой отец был иерусалимским интеллектуалом. Он дал мне знание языка и еврейской Библии, но сама атмосфера моих книг — она из деревни, от родных моей мамы и рассказанных ими историй: об их детстве в Украине, о первых годах сионистского движения в Израиле. У этой части нашей семьи была потребность и способность сочинять истории: к примеру, дядя рассказывал, что его ослица по ночам летает над деревней — абсолютно шагаловский образ; думаю, все это просочилось в мои книги. Я начал читать в четыре, а писать — в сорок, то есть большая часть моей литературной карьеры прошла в качестве читателя. Папа придирчиво относился к тому, что именно я читаю; он никогда не цензурировал мое чтение, говоря, что я «слишком мал» для той или иной книги. Так, в двенадцать я читал «Любовника леди Чаттерлей», и никто против этого не возражал. Но если отец видел, что книга, за которую я взялся, сомнительна с точки зрения языка, плохо написана, он забирал ее.
— Вы ходили в деревенскую библиотеку, как один из ваших героев?
— Да, и в иерусалимскую. В библиотеках меня любили и ждали: хранители видели, что я много читаю, и иногда проверяли меня — бывало так, что я брал книгу по дороге из школы, заканчивал ее к вечеру и бежал назад, чтобы взять еще одну на ночь.

Кроме того, я был близорук и не хотел, чтобы другие дети знали про это. Первые мои очки были на минус два с половиной, а дальше еще хуже, через пару лет я видел совсем плохо и старался это скрывать. На переменах, вместо того чтобы играть с пацанами, я шел в библиотеку, потому что там можно было не бояться позора — я просто придвигал книгу поближе к лицу; с окружающими и вообще с миром этого не проделать. Близорукость и книжки — важные элементы моего детства, и, конечно, они тоже попали в мои романы.
— У вашей семьи был сад?
— У мамы был маленький сад в Иерусалиме. Мы жили в многоквартирном доме, но на первом этаже, и к окну примыкал клочок земли. Мама начала обрабатывать его: посадила сливу, гранатовое дерево, розы, виноградную лозу, какие-то белые цветы; землю она привозила на тележке с близлежащего поля, и даже удавалось добыть немного навоза — неподалеку от нашего района было фермерское хозяйство, и коровы иногда ходили между домами. Но меня тогда сад совершенно не интересовал — меня интересовала зоология.
— Да, я помню, вы хотели стать зоологом.
— Что значит «хотел»? Я все еще хочу!

— Ваша первая любовь тоже была в деревне?
— Думаю, я впервые влюбился в Иерусалиме, когда мне было лет пять. Зато в деревне состоялся мой первый поцелуй: это был один из рабочих праздников, и девочка из Тель-Авива приехала, как и я, навестить родственников. Нам было лет по шестнадцать, и это был, конечно, не роман: мы провели вместе несколько вечеров и лишь поцеловались, больше я никогда не видел ее, но это было что-то настоящее и волнующее, вдобавок — она была из Тель-Авива, что для иерусалимского мальчика значит — более открыта, современна и смела.
— В книге «Голубь и мальчик» одним из главных мотивов является обретение дома — герой отправляется искать, находит и перестраивает свой собственный дом мечты с душем под открытым небом. Это про вас?
— Да, это было первым, что я написал для этой книги, и единственным автобиографическим мотивом в ней. Я очень устал от Иерусалима и захотел найти дом в деревне, где-то неподалеку от тех мест, где провел детство, и так в конце концов и получилось.
— Как вы поняли, что это — ваш дом?
— Как это бывает — просто любовь с первого взгляда. Я и дом поняли, что нашли друг друга.
— Там был душ на улице?
— Нет, его построила мне в подарок моя дочь после того, как он был описан в книге; она сказала: «Мне кажется, тебе очень хочется, чтобы он был».

— Это старый дом?
— 50-х годов. Он довольно скромный. Я тогда был еще женат, мне было около пятидесяти. Моей жене не хотелось покупать дом, но потом она как-то смягчилась к нему, хотя предлагала снести старый и построить что-то больше и симпатичнее. Но мне нравился именно он, и я настоял на том, что мы все в нем поменяем, но оставим стены; на это ушло около трех месяцев. И вот как-то в шабат мы были в Иерусалиме, а новый дом в деревне стоял пустым. Там было электричество, вода и газ, но вообще ничего больше. Я сказал — поедем в деревню? На что моя жена ответила — но там же даже сесть не на что. Тем не менее, мы решили, что как-то управимся, вынули матрас из нашей кровати, взяли еды, погрузили в пикап и отправились. Мы ехали Иорданской долиной, а не морем, и это был разгар полнолуния: на востоке вставала луна, а напротив садилось солнце, и они смотрели друг на друга. Я подумал тогда, что мы едем в это новое место, которое я уже полюбил, и сказал жене: «Я напишу книгу про этот дом». Мы приехали, я лег на матрас, положил ноутбук на пол и напечатал фразу «Я пошел искать себе дом». Однако все остальное в книге — выдумка. Вообще, главное в литературе — игра между фантазией и фактами. Поэтому один из моих героев так не любит носить очки: они делают мир слишком видимым, слишком реальным. Все творчество добывается из памяти, которая постоянно создает истории; даже если вы честный человек, ваша память — не честна.
Эмоционально люди особенно не эволюционировали за последние пять тысяч лет — мы образованнее, либеральнее, но отношения между родителями и детьми, мужьями и женами, старшими и младшими братьями — все те же.

— Поэтому большинство ваших книг как бы «вспоминают» о Писании и читаются как окруженные фантазией пересказы библейских историй?
— Да, мой отец был библеистом, но человеком светским. Он интересно преподавал Библию: ездил с детьми в разные точки Израиля, где происходили библейские истории, и рассказывал их прямо на месте событий. Например, мы читали историю Давида и Голиафа в том самом ландшафте, где она разворачивалась, — это место подробно описано в Библии. Более того, отец взял с собой знакомого, который знал, как обращаться с пращой! Для ребенка все это было чудесным опытом. Думаю, если бы стандарты Минобразования у нас предписывали преподавать Библию так, молодые люди знали бы ее куда лучше. То же самое — правда, без путешествий — отцу удалось проделать с греческой мифологией. Разумеется, я заинтересовался всем этим с детства: например, типаж Аталанты — бегуньи и охотницы, застрелившей калидонского вепря, есть во всех моих книгах. Мифология, правда, куда богаче Библии; в каком-то смысле Библия антимифологична. Там нет фантастических существ, Бог — один-единственный, не женат и не заводит бесконечных романов. Думаю, монотеизм был ужасным изобретением для Бога — да, мы должны гордиться им, но Бога мы тем самым наказали. Библия, однако, рассказывает истории настоящих людей, и нравится мне потому, что не очень психологична: там мало достоевщины и ковыряния в ранах, от которых часто быстро утомляешься. Если сравнивать с русской литературой, то Библия — скорее Гоголь и Бабель, чем Достоевский. Она документирует истории, перечисляет и называет все; говорит лапидарно, точно и простыми словами. При этом — оставляет читателю массу пространства для догадки. Моим любимым персонажем — не человеком, а именно литературным персонажем из Библии — является Иаков. Поэтому Яков — имя, которое я часто использую в своих книгах. Только двоих людей Библия обсуждает так подробно: царя Давида и Иакова. Моисей — тоже важный персонаж, может, даже более важный, чем упомянутые два, и вся его жизнь описана. Но он — не настоящий человек: Моисей творит чудеса, разводит руками море, превращает посох в змею, однако все это ничего во мне не задевает. Давид и, особенно, Иаков — сложны и эмоциональны. Иаков — это законник и влюбленный; он строит планы, однако ошибается; он романтичен и спонтанен. Поэтому у меня два Иакова в «Русском романе», один — в «Эсаве», один — в «Как несколько дней…».

— Насколько мы можем применять к этим людям свои чувства и свой опыт?
— Политически, с библейских времен кое-что изменилось: нет больше царей, которые могут казнить пол-царства после завтрака или завладеть чьей угодно женой, как любил делать Давид. Однако эмоционально люди особенно не эволюционировали за последние пять тысяч лет — мы образованнее, либеральнее, но отношения между родителями и детьми, мужьями и женами, старшими и младшими братьями — все те же. В библейские времена статус женщины в семье был иным, но ревность, и желание, и тоска, и привязанность, и чувственность были и есть сейчас. Особенно сильно это чувствуешь, когда называешь их теми же словами, что тогда. Часто, читая лекции за рубежом, я привожу такой пример: если бы сейчас в аудиторию, — говорю я, — зашел царь Давид или Иисус Христос, я бы мог поговорить с ними. Это правда: я могу читать Писание в оригинале и понимать очень многое из этих текстов. Такое возможно только на иврите: документов трехтысячелетней давности на старославянском, например, не существует. Вскорости, думаю, ивриту все же предстоит разделиться на современный и классический, однако поверьте, я все еще могу поговорить с царем Давидом. Я не смогу рассказать ему про свой смартфон и ноутбук, да и о политике говорить будет сложно. А о любви, Боге, памяти, мести, смерти, страхе и страсти мы поговорим с легкостью. А это — и есть литература.
— Я не говорю на иврите, но немного знаю о его грамматике. Меня удивляет пристальное внимание этого языка к категории рода.
— Это черта всех семитских языков. У нас, если я обращаюсь «вы» к группе, где есть двое мужчин и пятнадцать женщин, грамматика велит мне обращаться к ним так, как если бы это были одни мужчины. В современном иврите найден способ политкорректно сглаживать это, однако вы правы: и числительные, и местоимения первого лица у нас разные в зависимости от рода. Правда, никакой логики в родах имен существительных нет; помню, моя бабушка в деревне, когда кто-то в семье умирал, говорила о смерти в женском роде: «Ужасная смерть», — всегда говорила она. В то время как «смерть» на иврите — мужского рода. Один раз я спросил: «Бабушка, а почему ты так говоришь?». На что она сказала — «Потому что смерть — «она», разумеется». Наверное, в русском так, да?
— Конечно, смерть — «она». Выходит, семитские языки имеют немного сексистские наклонности.
— О да, на Ближнем Востоке это важно, не хотелось бы сделать ошибку. Надо точно знать, кто перед тобой — мужчина, женщина, кошка или диван. Диван, кстати, это «она». Библия, конечно, очень сексистская книга, но простим ей — это Ближний Восток три тысячи лет назад, понимаете? Сексизм здесь и сейчас процветает, чего уж ожидать от наших предков. В Библии, кстати, есть сильные и влиятельные женщины, но, к сожалению, их мало: пророчица Девора, также бывшая военачальницей, персидская царица Эсфирь, Руфь-моавитянка, не названная по имени мудрая женщина из Текоа, дипломатичностью и хитростью повлиявшая на большую политику. Но в целом Библия — это книга, написанная мужчинами, о мужчинах и для мужчин, и я даже не знаю, как извиняться за это, потому что это было несколько тысяч лет назад, когда многие нации и вовсе писать не могли.
— В центре любой вашей книги — семья; счастливая или несчастная, маленькая или большая. В еврейском видении семьи правда есть что‐то особое, или это стереотип?
— Мы очень ориентированы на семью, это правда. Связи между людьми в еврейских семьях очень сильны. Но думаю, это происходит просто потому, что мы две тысячи лет жили маленькими сообществами, а сейчас живем в маленькой стране.

— В Америке, если ты родил детей в Нью-Йорке, и один из них уехал в Миннесоту, второй в Мемфис, а третий в Сан-Франциско, ты видишь их дважды в год — на День благодарения и Песах. Здесь же большинство семей садятся за ужин каждую пятницу. Кроме того, если вы почитаете любую историю о происхождении нации, то фигуры предков там — в два человеческих роста: любые пращуры любого народа, от греков до шумеров, это кто-то, перед кем надо благоговеть: героические, мощные, идеальные. Но не у нас. Авраам, Исаак, Иаков, их жены — это люди с реальными семьями: с массой проблем, несовершенств и просчетов. Многие из них — плохие родители; Авраам — отец нации, но вы помните, каким папой он был?
— Вам бы хотелось написать книгу о своей семье?
— Я написал нечто подобное — книга называется «Моя русская бабушка и ее американский пылесос». Она смешная; правда, трагическая тоже, но по идее — смешная. В ней рассказывается о моей украинской бабушке и ее помешательстве на чистоте. Она компульсивно драила дом, и это забавно, но, конечно, на самом деле она была непростым человеком и мучила всю семью. К счастью, нам не изменяло чувство юмора, и мы шутили на эту тему; но, по сути, я был единственным среди всех, кто любил бабушку и любил проводить с ней время; остальные относились к ней довольно жестоко. Впрочем, это, конечно, мемуарами не назовешь, так что, может быть, я напишу их в будущем — когда останусь самым старым в нашей семье и никто не сможет со мной поспорить.
Опубликовано в журнале Seasons of Life №50. Новые и архивные выпуски можно купить в студии Seasons на Петровке, на маркетплейсах Ozon, Wildberries и у наших дистрибьюторов в разных городах.