Текст: Юля Григорьян
Иллюстрации: Настасья Худякова
Саша Леа Адина Уикенден сопровождает людей в их потерях — провожает за границу земного мира тех, кто уходит, возвращается и помогает проживать сложные чувства тем, кто остается. Нам она рассказывает, как признание собственной конечности может изменить жизнь, почему важно говорить на сложные темы, и что дает «работа горя».
Важная часть жизни
Мама моя выпустила в своей жизни одну-единственную книгу — «Смерть Есенина», в которой группа ученых и криминалистов расследует, что же реально с ним произошло. Мама — филолог и отвечала за литературный анализ. В это время мне было 5 лет, как-то раз она пришла с работы, и я говорю: «Мама, тебе кто-то звонил», она говорит: «Этот?» — Я говорю: «Нет». — «Этот?» — «Нет. Может быть, тебе Есенин звонил?» Она отвечает: «Нет, Сашенька, он не мог звонить». Я спросила почему, и она мне рассказала.
Я училась на юриста, проработала в этой профессии девять лет. В начале обучения планировала стать криминальным юристом, ездила со следственно-оперативными группами на места преступлений. Получается, эта часть жизни всегда была мне интересна. Сочетание любопытства и моей внутренней устойчивости дало мне возможность копать в тему смерти глубже и как-то смело и открыто говорить об этом в русскоязычном пространстве.
Юристом я перестала быть в 2012 году. С тех пор много где побывала, несколько бизнесов открыла, организовывала сообщества. Была в буддистских монастырях на обучении, проходила молчаливые ретриты и много искала ответов на вопросы о жизни и смерти. На одном из последних мне попалась книга «Искусство умирать» Гоенки. После нее я поняла, что есть целый мир, про который можно писать, говорить, в нем быть, работать. Потом я встретилась с описанием профессии «доулы смерти» и осознала, что суперстранный набор навыков, который я за свою жизнь накопила, идеально подходит к этой профессии.
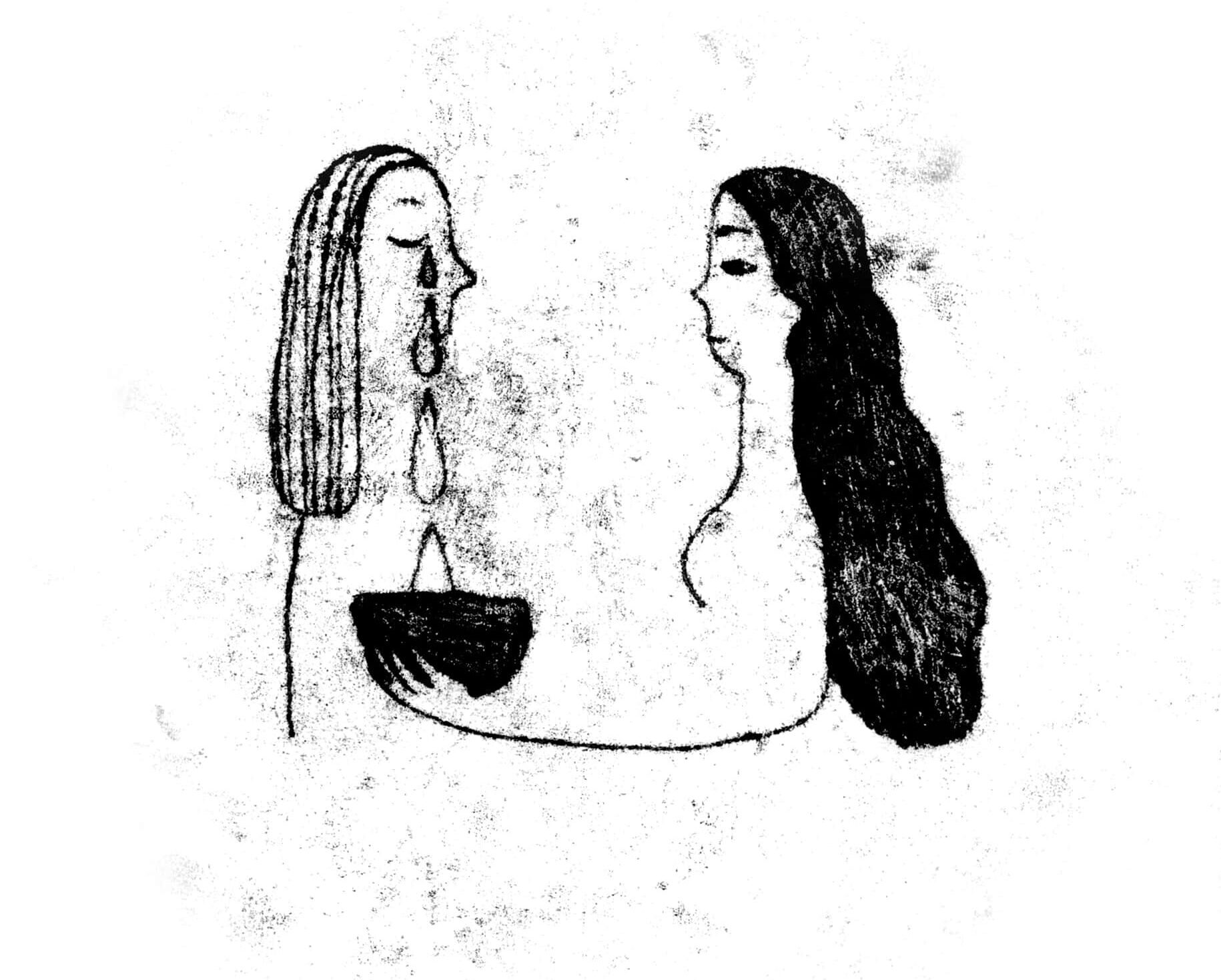
Удивительно, что в современной форме эту профессию выделил мужчина, Генри Вайс. Он много лет работал в хосписе и ощущал, что в происходящих там процессах чего-то не хватает. Пошел, отучился на родовую доулу и переложил этот концепт на процесс ухода человека. Это одновременно очень новая и очень старая профессия, потому что понятие «доула» имеет греческое происхождение, оно значит «рабыня», и ее задачей было «держать пространство» для своей госпожи. Работа доулы смерти во многом именно про это. Держать пространство — это замечать все, что в нем происходит: эмоции, состояния, вербальное и невербальное и понимать, что со всем этим делать в конкретный момент. «Делать» при этом не значит менять или улучшать, это значит проявлять и вместе с участниками процесса решать, как быть дальше.
Важность явности
В моей работе есть такой важный принцип, который называется «делать тайное явным». Все, что находится в поле, но о чем молчится, приносить в пространство и начинать об этом говорить. Самое сложное, что происходит сейчас со всеми нами, это как раз то, что мы не проявляем, не называем вот этого «большого слона», которого все видят, все чувствуют, все переживают, но не говорят о нем. Мне кажется, во многом мы в России, в постсоветском пространстве, в этой точке оказались потому, что не переработали всё, что было в этом веке до нас, в прошлом веке.
Все, что нужно было вмещать и о чем не нужно было молчать, — оно до сих пор тайно. Вдобавок во времена СССР была уничтожена почти вся культура горевания и связанная с ней ритуальность.
Это замораживает, это расчеловечивает, это очень важно отгоревать, чтобы получить снова доступ к таким светлым, тонким состояниям, из которых возможен мир, где мы сможем хотя бы подумать, «а точно нам нужно кровопролитие?», «а точно это цель, к которой мы хотим прийти?». Мы не проговорили и не прожили эту травму, и на нее наслаиваются все новые и новые, делая горе очень многослойным, а людей — еще холоднее. Тема потерь всегда очень «заряжена». Она точно рванет, если не понять, как проделать работу горя, как это все проявить, не начать говорить — и это скорее всего будет очень некрасиво и очень больно. Поэтому хочется об этом вещать, писать, обсуждать, чтобы можно было жить дальше.
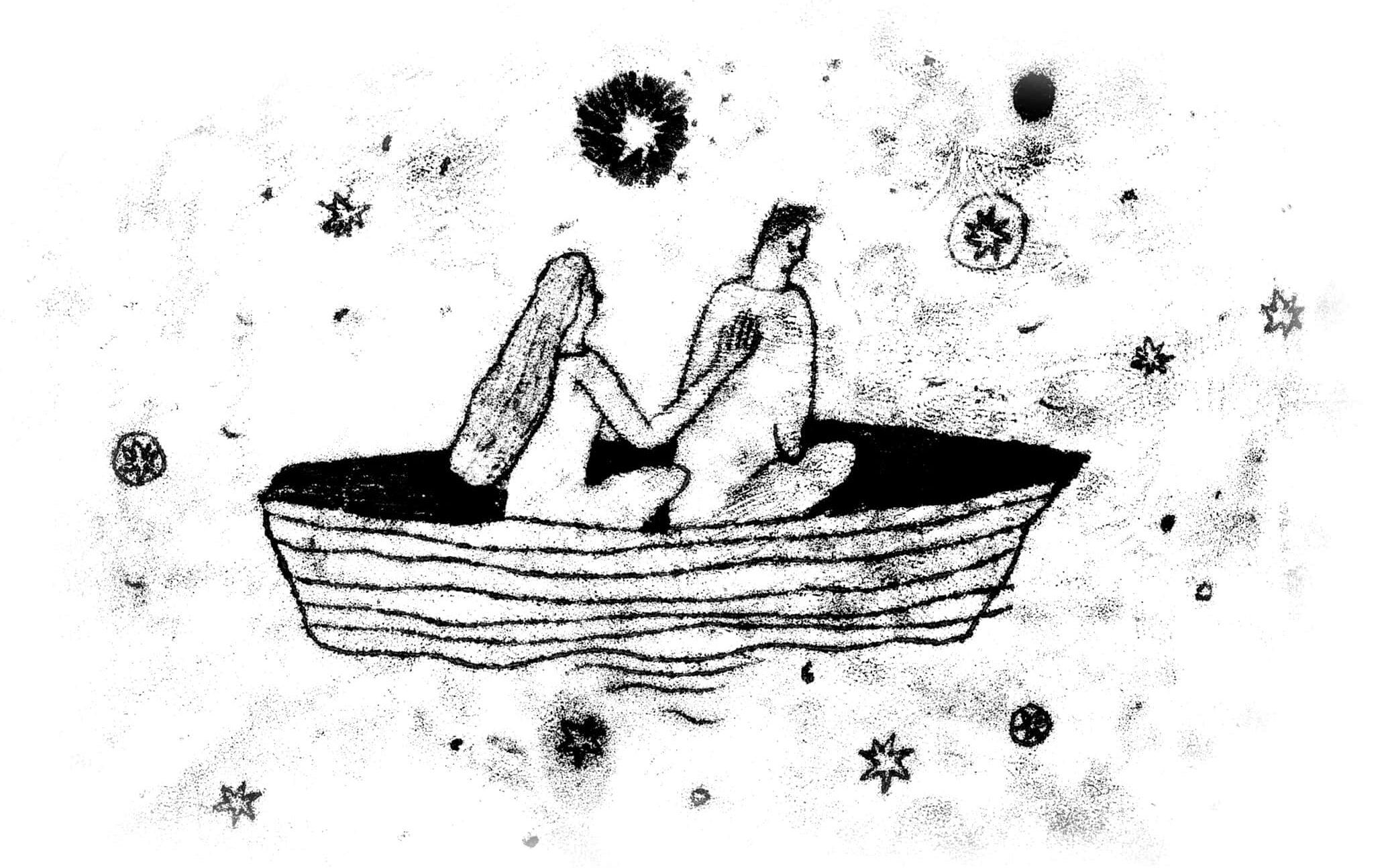
Когда я работаю, я нахожусь между мирами. Хожу с людьми туда, за границу, и потом возвращаюсь. Иногда возвращаюсь без них, иногда возвращаюсь с ними. И работа в горевании тех, кто остался, — это тоже нахождение в междумирье.
После потери кого-то важного острая стадия горевания длится 4–6 недель. В это время человек пока еще «не в жизни», не может толком ни спать, ни есть, ни голову мыть и часто сам не хочет оставаться тут. Это нормально, главное, чтобы мысли о том, что не хочется жить, оставались только мыслями. Важно понимать, что быть в пространстве между мирами очень непросто. Не все это выдерживают. А люди, которые могут сопровождать в процессе горевания, должны обладать навыком ходить туда, за границу жизни, и возвращаться.
Но и самому важно понимать, как процесс проживания горя устроен, отслеживать его течение у себя, чтобы не застрять в нем надолго. Потому что, по сути, у горя есть структура, у горя есть теория, у горя есть сроки, у горя есть фазы — это целая система. Есть такое понятие, как «работа горя», которую нужно проделать. Я остаюсь рядом с теми, кто прожил потерю, в острой стадии горя, когда кажется, что, кроме этой тьмы и бездны, вообще ничего больше нет и не будет. Это время нужно, чтобы признать, что потеря наступила и она навсегда теперь часть нашей жизни. Но если прожить этот процесс сполна, то в какой-то момент случается постепенное всплытие со дна, наступает интегральная фаза горевания. Это время, чтобы понять, как теперь научиться с этим жить. В новом статусе должно пройти четыре сезона, чтобы после потери отметить все праздники годового цикла и день рождения ушедшего человека. Полноценно мы начинаем жить себя только со второго года. До этого не понимаем — кто я новый, а кто я без этого человека, без этого партнера, без этой страны?
Расставанье — маленькая смерть
Развод, переезд, а тем более вынужденная эмиграция — это тоже потеря. Потеря базовой безопасности, а в ней очень сложно вообще что-то делать. И если после ухода близкого человека при правильном проживании горя мы со второго года строим новую жизнь, то в эмиграции мы начинаем жить полноценно обычно только с третьего.
Когда люди куда-то переезжают, первый совет для них тот же — присоединиться к праздникам годового цикла нового места, понять их смысл, тогда сильно больше шансов почувствовать себя на новом месте дома.
И расставание с партнером, с человеком, с которым мы проводим больше всего времени и отыгрываем больше всего ролей, это конец прежней жизни, смерть идентичности. Возникает ощущение, что нет рук, нет ног, их надо растить заново, всего себя перестроить, перепридумать. Одна из самых болезненных потерь — разводы, особенно если есть дети. Нельзя это недооценивать и мериться горем, мол, «как ты можешь вот так убиваться, подумаешь, разошлись — найдешь себе нового». Это привычка такая не только у нас в культуре, с которой нужно работать.
Как только мы перестанем составлять хит-парад потерь, мы начнем замечать, понимать и горе других людей, даже если нам кажется, что оно меньше или сильно больше нашего.

Жизнь нам дает бесконечное количество возможностей, чтобы научиться горевать, научиться проживать потери. Поскольку у нас растеряны эти навыки и знания, когда мы встречаемся с этими чувствами в себе, они безумно пугают своей интенсивностью, и первая естественная реакция — убежать. Если такого опыта не было раньше, есть ощущение, что это невозможно пережить. И когда он появляется, когда мы знаем, что прошли это и выжили, мы получаем знание, что на самом деле мы со всем можем справиться.
Я помню, как закрылся мой любимый цветочный магазин в Тель-Авиве, с продавцом которого у меня были теплые отношения. Четыре года я ходила туда каждую пятницу, мы с ним болтали, это было моим ритуалом. Когда он закрылся, я горевала, потому что вместо ритуала образовалась дыра.
Чувства были не очень сильные, но зато можно было прожить все их оттенки — и торг, и гнев, и попытку заменить, и попытку сбежать. И очень классно на этих маленьких, не очень интенсивных потерях качать горевательные мышцы и готовить себя к более серьезным, которые все равно с каждым случатся.
Пробивая асфальт
Люди приходят ко мне с разными потерями. Они, с одной стороны, безумно растеряны от той интенсивности эмоций, с которой встретились, а с другой стороны, они достаточно открыты, чтобы довериться какому-то человеку, у которого немного больше знаний и опыта. Это похоже для меня на такую потерянность в темном лесу, когда уже совсем непонятно, куда идти, и вдруг появляется какой-то человек, который говорит: «Ну, у меня есть вот такой фонарик, я не уверена, что точно знаю дорогу, но мы можем попробовать сделать это вместе, это не будет так страшно, тяжело и одиноко».
За последние сто лет в нашем восприятии смерти все очень утрамбовалось, оно стало настолько плотным от убеждений и закостенелостей, что то, что я делаю, чувствуется иногда как пробивание асфальта. Я в целом люблю ломать границы. Когда в 2012 году я уехала из России, не совсем было понятно, кто такие все эти диджитал-номады, что такое путешествовать нон-стоп, что такое не жить нигде. Ну а я решила — попробую. И тогда сломались мои границы мира, понимание стран, передвижения, дома. Так несколько раз со мной в жизни происходило, и сейчас я опять на этапе, где ломаются мои границы. Мои, прежде всего, границы восприятия смерти. Смерть, умирание, горевание — это очень красивый мир, это очень интенсивный по эмоциям и переживаниям мир, это очень сложный и иногда невыносимый мир, но он очень большой, важный, и без него не получается жить полноценно. То есть если в этот мир не ходить, отрицать его, не видеть, сложно жить полноценно.
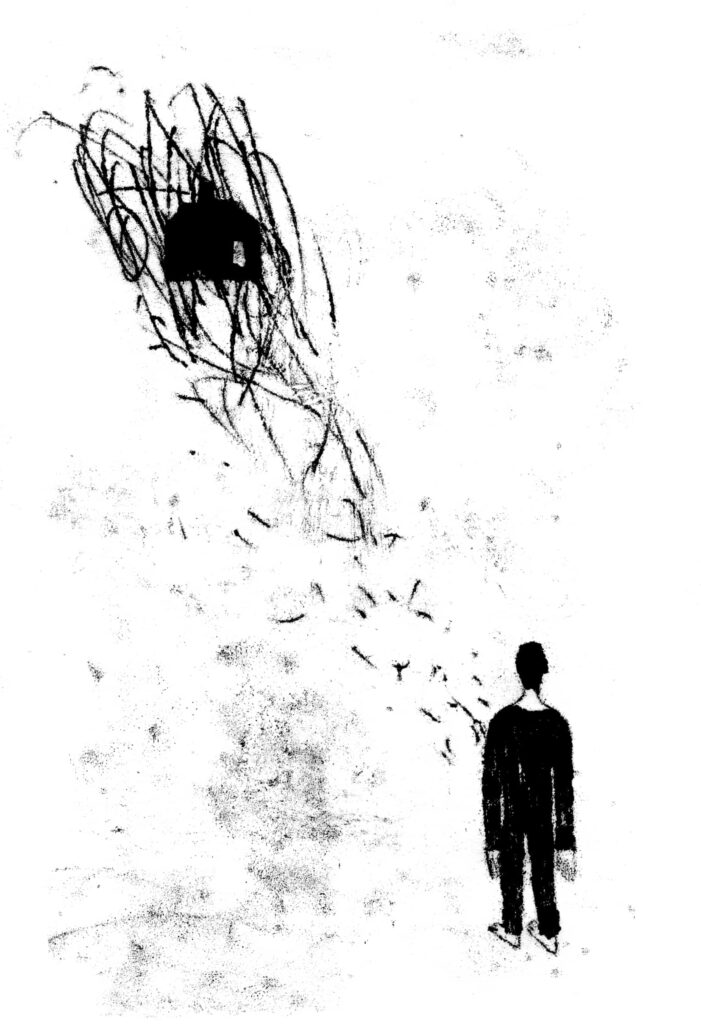
В работе у меня есть доступ к самым уязвимым, самым честным эмоциям людей за всю их жизнь. Область смерти полна жизни именно по этой причине — из-за доступа к состояниям людей, в которых на маски просто нет сил.
Два способа прожить жизнь
Еще одна достаточно объемная категория моей работы — работа со страхом смерти. Почти всегда это корнями уходит в асфальтированную семейную систему, когда о смерти нельзя было говорить, домашние животные просто «куда-то девались», не объяснялся уход значимого человека, на похороны не брали. Работая с этим, я пытаюсь понять, что могу для этих людей сделать, чтобы у них по-другому было в будущем.
Я не встречала лично людей, которые совсем не боятся своей конечности, и я точно не одна из них. Избавляться от страха смерти не нужно, потому что это важная часть инстинкта самосохранения, которая дает нам возможность не погибать по глупости.

Но страх, который нас защищает, может развиться до состояния фобии, сделать жизнь проблематичной. И вот этот спектр, этот бегунок — от точки защиты до точки фобии — у всех по-разному двигается. И я провожу исследование, как человек пришел в эту точку страха, что составляет его структуру, как это мешает ему жить и как это можно поменять.
Есть два способа прожить жизнь. Один — когда я осознаю свою конечность, и через нее я могу понимать, что мне действительно важно, как мне важно жить мою жизнь, как я себя в ней чувствую. Второй способ — это отрицать свою конечность, не смотреть туда и направить все усилия на омоложение, продление жизни, поиск возможности бессмертия. И для меня во втором способе больше желания избежать смерти, чем желания жить.
В Израиле есть праздник Йом-Кипур, день покаяния, в который оцениваются дела человека за весь прошедший год. На его празднование принято поститься 25 часов без еды и воды и надевать одежду, в которой тебя потом похоронят. В этом празднике есть элемент памятования своей конечности. И в Израиле очень чувствуется жизнь, это очень витальная страна — принятие смертности, ее видимости делает жизнь очень яркой, очень ощутимой.
По себе знаю, что страх смерти у меня обостряется в моменты, когда я недостаточно честна с собой или что-то не доделываю, не досказываю. Это всегда сигнал и хорошая точка сверки — а что в жизни-то моей сейчас происходит? Что случилось, что он возрос? Есть закономерность, что чем меньше человек реализован в своей жизни, тем больше он боится своей конечности. Если идти в работу с этим чувством, достаточно высокий шанс поменять свою жизнь и прийти в конец жизни с меньшим количеством сожалений.
До ковида у меня было по 30 перелетов в год. Каждый раз я задавала себе вопрос: «Если это мой последний полет, о чем я пожалею?» И если что-то находилось, когда приземлялась, я это старалась реализовывать. И это сильно меняло жизнь.
Сейчас вечером я частенько сверяюсь со своим страхом смерти: если я завтра не проснусь, как я по этому поводу себя чувствую? Я там вообще, где я хотела бы быть? Для меня это очень важная точка отсчета, то ли я вообще делаю в жизни? Я использую конечность своей жизни как опору, потому что на самом деле, смерть — это единственное, что я точно знаю, что со мной произойдет.
Опубликовано в журнале Seasons of Life №65. Новые и архивные выпуски ищите в нашем магазине и у дистрибьюторов.












