Интервью: Марина Жаворонкова
Иллюстрации: Дарья Уланова
Фото: Roma Kaiuk
Мы поговорили с психологом Ириной Млодик про то, кто такие родственные души, об умении дружить и о том, как изменились за последнее время наши представления о дружбе.
27 мая мы встретимся с Ириной Млодик в студии Seasons, чтобы обсудить и разобразаться, как оставаться собой в эпоху перемен. Подробности и регистрация здесь.

Ирина Млодик
Кандидат психологических наук, практикующий психолог, сооснователь ресурса «Площадка» @mestogdemozhno
Как найти свою родственную душу?
Мы ищем людей со схожими ценностями. Нам очень нужны люди, которые воспринимают мир так же, как мы. Это важно для человека — чувствовать себя частью какой-то большой группы, иметь единомышленников, быть вместе.
У меня есть версия, что мы выбираем людей не рационально, а интуитивно. Как индеец, который выходил на тропу и, прислушиваясь к лесу всем телом, принимал решение — идти на охоту или нет. В нас по-прежнему живы все эти древние слои психики, которые позволяют читать тайные, невидимые знаки. Не голова здесь главная — «у него отличная квартира и зарплата подходящая, хороший парень, надо брать».
Мы говорим кому-то да, а кому-то нет, делая выбор всей психикой, которая куда мудрее нашего сознания.
А через пять лет может выясниться, что ты выбрал совсем не того человека…
Да, это частая история. Тогда нам был созвучен этот человек, мы были с ним на одной волне. Но мы меняемся, из каких-то отношений вырастаем. Боль, предательство помогают нам взрослеть, мудреть и видеть тех, с кем нам не по дороге. Распознавать их не тогда, когда мы с ними пуд соли съели вместе, а на подлете. Посмотрите на детей, подростков, которые только учатся дружить и часто ошибаются, пока не накопят достаточный опыт для того, чтобы с ходу определять «мой или не мой человек». Это интуитивное знание мы развиваем в себе в течение всей жизни.
То есть чем больше ты в контакте с самим собой, тем больше шансов встретить «тех самых» людей?
Конечно. Когда мы в контакте с собой, мы близки к нашей аутентичности, к нашему глубинному «я», тогда мы выбираем людей, которые ценностно похожи на нас. В двадцать лет мы можем влюбиться в человека, который нам кажется и красивым, и умным. А потом окажется, он считает, что детей нужно пороть по пятницам в профилактических целях. И если для нас это неприемлемо, вряд ли у такого союза есть будущее.
Хорошие отношения, дружеские, брачные, предполагают совпадение по глубинным ценностям, поэтому так важно их для себя формулировать.
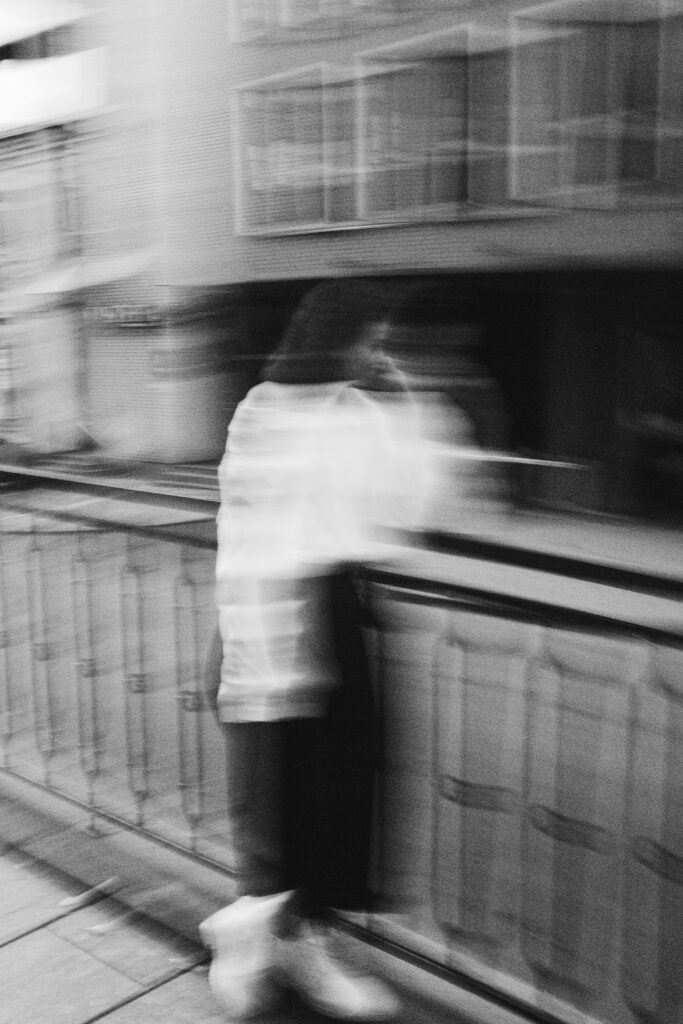
Вы можете различаться по характеру, у вас могут быть разные интересы и бытовые привычки, но если между вами есть вот эта близость, родственность взглядов, то несовпадения в каких-то других сферах можно пережить, приспособиться друг к другу.
Сейчас в обществе идет настоящая война взглядов — наш Крым или не наш, вакцинирован ты или нет. Рушатся многолетние дружбы, близкие некогда люди перестают существовать друг для друга. Тут нет, конечно, никаких рецептов. Кто-то настолько дорожит отношениями, что готов закрывать глаза на политические разногласия и острые темы просто не обсуждать. А кто-то на это не способен, потому что в его картине мира определенные политические взгляды — это все равно что пороть детей по пятницам. В Америке даже на сайте знакомств пишут: «Я за Байдена» или «Я за Трампа», и это очень разумно — сразу обозначить свою позицию, чтобы искать себе партнера со схожими ценностями.
Но ведь бывает так, что родственность душ возникает не сразу, а вырастает из сознательного движения навстречу друг другу?
Мы все меняемся в течение жизни. И меняемся, если хотим измениться. Я часто наблюдаю с удивлением, какими другими могут стать отношения в паре, как люди могут становиться по-настоящему близкими. Это происходит, если мы дороги друг другу и ради наших отношений готовы пересматривать какие-то свои детские установки, избавляться от разрушительных паттернов.
Мне вообще кажется, что это очень интересно — попробовать понять человека, не похожего на нас, что называется «пожить в его тапках». Может быть, это не всегда про родственность душ, но умение посмотреть на мир другого безоценочно расширяет и наш собственный мир.
Почему кому-то везет с друзьями, коллегами, соседями, а кому-то нет?
Внутри нас всегда лежит проекция: мы думаем о других через себя. Человек, которому «везет», как правило, умеет доверять, строить отношения, дружить. А тот, кто ждет от всех подвоха и постоянно держит ухо востро, часто в людях разочаровывается. Он бессознательно транслирует эту враждебность, и в его присутствии поневоле сморозишь какую-то глупость, обидишь нечаянно и попадешь в эту его проекцию. А тот скажет: «Вот видите! Я так и знал. Никому нельзя доверять».
К сожалению или к счастью, опыт взаимодействия с миром людей формируется в детстве, очень рано. Мы получаем его через родителей и особенно через братьев-сестер, потому что это опыт равных. Сиблинги конкурируют между собой, постоянно сталкиваются с ситуациями, когда нужно кому-то настоять на своем, а кому-то уступить, поделиться или отнять.
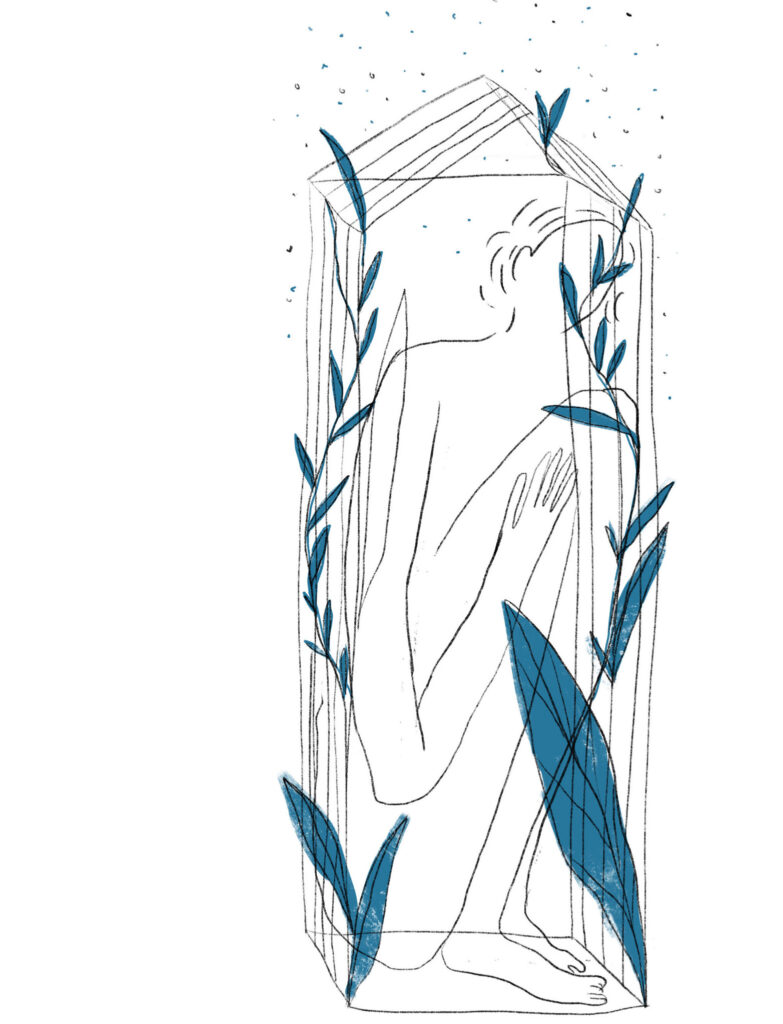
И опыт у сиблингов, растущих в одной семье, может быть совершенно разным. Один вырастает с ощущением, что с людьми надо держать себя настороженно — ранят, обидят, отнимут твой кусок хлеба, если зазеваешься. А другой воспринимает людей как свой ресурс и источник радости.
Если раньше дети вырастали во дворе, где получали опыт разнообразных отношений — как знакомиться, как вместе играть, как ссориться и мириться, — то теперь они в такой свободной среде не бывают и часто не умеют в ней быть.
Я родителям все время говорю: у ребенка должно быть выделено время на друзей. А родители часто не понимают: «Пусть лучше учится, ему ЕГЭ сдавать, а наобщаться еще успеет». Но сензитивный возраст, чтобы научиться дружить, — подростковый, и сформировать навыки общения не менее важно, чем получить образование.
Эмоциональные навыки, которые ребенок приобретает в процессе дружбы, — огромный клад, с которым он идет во взрослую жизнь.
Будет ли он счастлив, имея два красных диплома, но не умея коммуницировать, — завязать отношения с девушкой, работать вместе с коллегами над проектом?
Сейчас вся эта история с пандемией работает на коммуникационный кризис. Мы начинаем друг друга воспринимать как опасность, держать дистанцию, отношения все больше перемещаются в интернет. Но может ли виртуальное общение заменить реальное?
Конечно, мы находим способы быть друг с другом на связи, но чаты, зумы, соцсети — это протез вместо живой ноги. Мы чувствуем, «мой» человек или нет, в том числе телесно. Вот мы сидим с вами за столом, улыбаемся друг другу, качаем головой, размахиваем руками, и это дает нам ощущение того, что встреча состоялась. А если бы мы друг друга видели только на экране, наша коммуникация была бы урезанной.
Мы смотрим на картинку, слышим текст, но этого мало — за кадром остаются тонкие эмоции, телесные реакции. Такое общение не напитывает, а утомляет. Это прекрасно, что современные технологии позволяют оставаться на связи, но заменить живое общение они не могут. Оказывается, возможность кого-то обнять, просто похлопать по плечу нам очень важна — через это мы ощущаем, что мы не одни, рядом с нами кто-то есть. Мы узнали, что значит по-настоящему тосковать по людям. Раньше казалось: подумаешь, да я увижусь с друзьями в любой момент, не сейчас, так на следующей неделе или через полгода. А теперь мы точно знаем, что возможностями встреч нужно дорожить, это один из драгоценных даров, которые дает нам жизнь.

В то же время интернет дает нам ощущение огромного мира — можно общаться с людьми из любой точки земного шара. У нас сегодня очень много возможностей найти свою среду, и поэтому мы куда легче, чем двадцать лет назад, выходим из отношений, которые себя исчерпали. Родственность душ — это в том числе и про попадание в один психологический возраст. Вам может стать не по дороге, например, с бывшими одноклассниками, потому что у вас слишком разная жизнь и интересы. И ничего страшного в этом нет, найдутся те, с которыми окажется по пути.
Сегодня уже не принято ходить в гости без звонка, да и звонить без предупреждения неприлично. А доверительные разговоры на кухне нам теперь заменяет визит к психотерапевту. Значит ли это, что дистанция между людьми увеличилась?
Раньше и психотерапевтов не существовало, друзья были нам и за священника, и за психолога, и за врача, и за педагога, и за медика. Если у нас ломался телевизор, мы шли к дяде Пете, а если нам нужно было сделать укол — к соседке, а потом в благодарность относили им пироги или сидели с их детьми. У нас было общество взаимной поддержки, которое помогало нам выжить в сложных экономических условиях — ни у кого не было денег заплатить за услуги, сплошной натуральный обмен. И это создавало у нас ощущение большой семьи, которая тебе всегда поможет, если что.
А сейчас мы и своих соседей толком не знаем. Мы вызываем мастера, а не идем к соседу, вызываем такси, а не просим друга с машиной подвезти, и десять раз подумаем, удобно ли «грузить» подругу своими проблемами. И это совершенно нормально.
Мы жили в обществе, где границы не соблюдались, ценили в отношениях возможность опереться на плечо друга в любой момент. Но долго быть в таком слиянии невозможно — накапливается напряжение, становится душно. Если мы позволяем другому человеку без предупреждения вторгаться на нашу территорию, а мы без спросу ходим по его земле, страдают и наши отношения, и мы в отношениях.
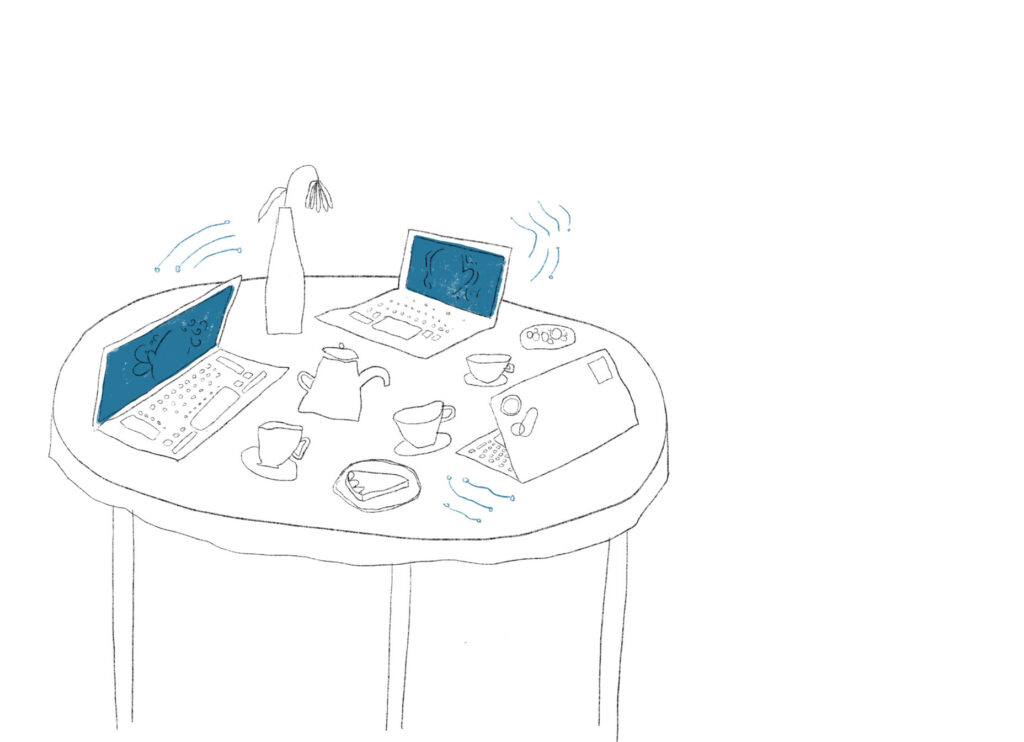
Это естественный процесс — от слияния мы пришли к индивидуализму, а теперь движемся к здоровому партнерству и учимся крепко стоять на своих ногах, а не висеть друг на друге.
Совершенно нормально, прежде чем затевать сложный разговор с друзьями или близкими, задать им вопрос: «Есть ли у вас сейчас время для меня?» Хорошо бы ввести эту фразу в бытовую привычку. Это про уважение: ты мой друг, но это не значит, что ты обязан все бросить ради меня, я готов принять твой отказ, и наши отношения это не разрушит.
Значит, дружба в нашей жизни теперь занимает совсем другое место? А как же «положить жизнь за други своя»?
Я бы не хотела, чтобы мой друг отдал за меня жизнь. Как мне-то потом жить с этим — виной, долгом перед его матерью и детьми? Говорят, в Японии не спасают тонущего человека, потому что тот, кого вытащили, обязан благодарить своего спасителя всю жизнь, и это очень сложная история.
Мне не кажется правильным, когда друг просит меня (или я его прошу) встретить его старенькую маму в 4 утра в аэропорту только потому, что у меня есть машина, а у него нет. Я скажу ему: «Закажи такси, в чем проблема?» Конечно, он может попросить меня о помощи, но я должна понимать, что это какой-то особый случай — все складывается так, что маму могу довезти только я.
У каждого из нас в голове своя картинка: кто такой друг, что я готов для него сделать, и что он — ради меня. Для меня дружба — это про взаимные интересы, уважение. И мы можем выстраивать такие отношения, в которых не нужно жертвовать ни жизнью, ни деньгами, ни сном, чтобы что-то друг другу доказать.
Так и вырастает настоящее родство душ — не из зависимости, а из взаимного интереса и уважения.

Здоровые отношения построены на взаимообмене: мы отдаем, но и получаем, и тогда общение нас наполняет, а не опустошает. Это внутреннее ощущение и есть тот самый камертон, с которым хорошо бы время от времени сверяться: не слишком ли часто я выступаю дающей стороной?
Хочется ли мне брать трубку и каждый раз выслушивать три часа излияния подруги? И наоборот, не я ли та самая подруга? Усталость от отношений — сигнал, что баланс «брать-давать» нарушен, и нужно что-то пересмотреть. Например, честно сказать подруге, что вам трудно ее выслушивать каждый день, и психотерапевт помог бы ей гораздо больше.
Сегодня в соцсетях все постоянно обвиняют друг друга в нарушении границ. Все стали такими уязвимыми, что иногда слово страшно сказать — вдруг опять на больную мозоль наступишь.
Эти перекосы неизбежны, когда вырабатываются новые коммуникационные нормы. Мы только учимся осознавать и свои, и чужие границы. Мы пытаемся уйти от привычной раньше коммуникации, когда говорить оскорблениями, прыскать ядом было нормально. Мы уже движемся в правильную сторону, признавая, что нельзя обесценивать чужой опыт и переживания ни взрослых, ни детей. Нам уже приходится сто раз подумать, прежде чем что-то сказать, чтобы никого не обидеть.
Мы еще и форму корректную не нашли, чтобы говорить о том, что нам не нравится. Сейчас мы пользуемся довольно искусственными фразами «Ты нарушаешь мои границы», прячемся за психологическими терминами «токсичный», «абьюзер», вместо того чтобы своими словами объяснить, что мы имеем в виду. Но мы учимся, и я уверена, что мы найдем корректные формы для выражения наших чувств.
Мне кажется, это здоровая тенденция — говорить открыто о том, что ранит. Мы становимся бережнее к себе, а значит, и к другим. Так и вырастает настоящее родство душ — не из зависимости, а из взаимного интереса и уважения.












