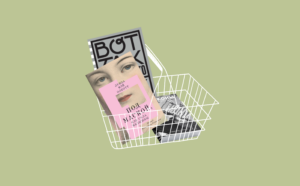Текст: Ляля Кандаурова
Фото: Алексей Гущин, Антон Завьялов
Теодор Курентзис — один из самых значимых людей в классической музыке России и мира. Дирижер, создатель оркестра MusicAeterna, художественный руководитель Дягилевского фестиваля, обладатель шести «Золотых масок» как лучший дирижер, не считая наград за спектакли. Он родился и вырос в Афинах — и рассказал нам о своей жизни в Греции, неочевидном величии ее культуры и о самих греках.
В этом году Дягилевский фестиваль пройдет с 23 июня по 2 июля в Перми.
Слово
Про Грецию нужно сказать прежде всего вот что: это очень поэтическая страна. Я считаю, что самая красивая поэзия была написана в Греции, начиная с Еврипида и Эсхила две с лишним тысячи лет назад и заканчивая нашим современником Мильтосом Сахтурисом. Греция — это язык Гомера и Нового завета, это мысль, это идеи. Это место, куда пришло и где прижилось христианство, именно потому, что этот край источает особую логику. Что-то там заставляет тебя отстраниться от инстинкта и включить свою духовную часть.

Греция — страна не для тех, кто ищет эфемерного. Греческое солнце заставляет тебя обратить внимание на то, что есть у тебя внутри.
На поверхностном уровне она дается очень легко: солнце, море — кажется, какое хорошее место, приятно находиться. Ее величие действительно связано с солнцем, но заключается в другом. Для грека это может быть непонятно, я начал ясно видеть это, находясь на расстоянии.
Греция — страна, которая помогает тебе понять: на свете нет вечности, ничто не длится, кроме энергии слова. Этот невероятный потенциал есть даже у простейших слов греческого языка. Например, мы говорим слово φωνή — foni, что значит «голос», отсюда «граммофон», «фонетика», «фонограмма». Для грека это слово однокоренное со словом φως — fos, что значит «свет». Оба они связаны с глаголом «освещать», то есть голос есть освещающее средство, посредством голоса я освещаю свой замысел: через свет вступаю с тобой в коммуникацию. Этот свет, его архитектура и энергия очень важны в философии языка. Евангелие от Иоанна начинается со знаменитого «В начале было слово» — Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος. Последнее слово здесь «логос» — что значит и «слово», и «причина», и «обещание», и «разум», то есть эту строчку невозможно перевести. Основная масса богословских книг считаются непереводимыми. Вот почему для того, чтобы понимать большинство философских понятий, ты должен жить там и каким-то загадочным образом ловить в воздухе этот букет смыслов, не всегда параллельных, не общих. Они становятся общими, когда находятся уже в нашем мире. А пока они идут из другого, придется тебе самому их расшифровать.

Греция — организм, совершенно самоуправляющийся и во многом протестующий против ценностей современного мира, который не имеет таких корней. Мир старался обновить греков, сделать их «цивилизованными европейцами». Это невозможно. Скорее у нас есть общее с сербами и русскими. Мы связаны и в эмоциональном, и в языковом смысле: это общий алфавит, кириллица. Явления греческого языка, которые непереводимы ни на какой другой, могут быть отчасти переданы на русском благодаря той колоссальной работе, которую проделали некогда Кирилл и Мефодий, Максим Грек.
Я придаю огромное значение языку, потому что он заставляет нас перейти на другой уровень; язык дает нам шанс на общение, а значит, на то, чтобы почувствовать друг друга. Влюбленные, целуясь, прикасаются к оболочке, но их души не целуются: контакта у них нет. При повседневном разговоре мы общаемся, но зачастую общения тоже не происходит. Поэтому пары могут договориться о каких-то основных ценностях, о своих нравственных позициях и поведении, однако исследовать первоначальный хаос, предшествующий речи, — это совсем другое. Для этого нужен очень сознательный язык, причем неважно, носитель ты или нет.

Память
Я родился в Афинах. По крови я — абсолютно беспримесный грек, это редкий случай. На три четверти я — афинянин, на четверть — из Константинополя, ныне это Стамбул. Там еще с византийских времен жила семья моей бабушки, там родилась и она сама. Я застал Грецию во времена хунты (режим военной диктатуры начался там в 1967 году). Я родился позже и рос на фоне разгара революционно-анархистских настроений среди молодежи, протестовавшей против режима.
Греция, которую я помню, — это место, где на протяжении столетий действовало множество разных людей и каждый оставил свой отпечаток. Это потоки истории, наследующие друг другу, и память: не человеческая, а память места. Поэтому быть греком — это значит развиться в этих краях, получить воспитание, разлитое в воздухе невидимой силой, и в то же время не зависеть от топографии: каждый человек, находящийся в Греции долго, через какое-то время обнаруживает характерные особенности, неизменные с античных времен. Поэтому греком можно стать, приехав и проведя там достаточно времени.

Греция — место, где находится золотая середина между Востоком и Западом. Там Аристотель указывает на землю, и Платон указывает на небо, как у Рафаэля на фреске, изображающей Афинскую агору. Афины всегда были городом-государством, и всякий, кто начинает жить в нем, рано или поздно, так или иначе начинает жить по его правилам. Этот сочный, немного сонный город сильнее человека, причем ты не сразу это замечаешь. Но когда оказываешься в старом центре, идешь, например, на агору, вдыхаешь воздух, ты совершенно ясно понимаешь: земля говорит. Я не встретил такого ни в одном другом городе.
Театр
То же чувство испытываешь, например, в Эпидавре. Это наиболее полно сохранившийся, идеальный театр на Пелопоннесе. Здесь нужно немного сказать о философии театра. Мы говорим слово «амфитеатр», имея в виду полукруглую конструкцию, а между тем что такое αμφι? «Амфи» — это вопрос, двусмысленность, это нечто, ставящее слова под сомнение, что-то несовершенное и открытое для трактовки. Действительно, античный театр разомкнут, он вопросителен. Почему он не закрывается, как обычный? Во-первых, театр всегда строился на очень неслучайном месте.
Для этого в античном театре существовал хор — связующее звено между зрителем и действующим лицом. Хор в античной трагедии — это актеры, но они приближены к аудитории и выражают впечатления и внутренние замыслы протагонистов. Комментируя, они как бы вслух задают вопросы к драматическому действию и приглашают зрителя создавать эти вопросы вместе с ними. Они помогают ему пройти правильный путь.

В театре играли только мужчины, и это касалось даже женских персонажей: роли исполнялись в масках. Зрителю не было интересно видеть лицо актера, его индивидуальные черты — он был идеограммой, суммой образов. «Мужчин» и «женщин» в театре не было, роли были очень условны, чтобы создающаяся тяга не была половой, а работали только архетипы. Глядя на них и формируя этот бесконечный, многочасовой вопрос, зритель волей-неволей должен проектировать самого себя. В большинстве случаев вопрос не имел ответа. Тогда с помощью театральной машинерии появлялся deus ex machina (дословно — «бог из машины»), который говорил: «Ответа нет, я разрешаю драму». Когда театр замкнулся, «закрылся», действие утратило этот момент становления и вопросительности. Поэтому Римская империя получила уже совершенно другой театр. Великое и сложное искусство сменилось увеселением и жестокостью: театр стал местом, где воевали и гибли, где казнили христиан, — началась эпоха декаданса, падения античного театра.
Бог
Как ни странно, мифология для Греции — не самое главное. Она была неким началом, необходимым для того, чтобы выстроить язык и мышление. Это очень важно понять.

Древнегреческое искусство не сделало существенных шагов вперед, за ним мог последовать лишь закат. Оно само по себе было периодом совершенства, недостижимого в течение долгих последовавших лет. Представьте себе «улучшение» скульптур Праксителя или драм Эсхила. Его «Прометей», по сути, история о воскресении. Она связана с Элевсинскими мистериями: это таинства, посвященные процветанию и плодородию и овеянные огромной загадочностью. Они были очень важны для греческой культуры: до сих пор в языке есть фразы, связанные с Элевсинскими мистериями, то есть вошедшие в него более двух тысяч лет назад и сохраненные в неприкосновенности. Эсхил, написав «Прометея», раскрывает очень большие секреты, и другие иерофанты — жрецы, посвященные в таинства в Элевсине, — хотели убить его. В тексте драмы есть эпизод, где прикованный Прометей отвечает на вопрос о своем самом большом преступлении. Он говорит, что повинен превыше всего не в том, что украл и принес человечеству божественный огонь, а в том, что он научил людей не бояться смерти. Эта фраза — о воскресении, об открытии тайн Элевсинских мистерий.
Детство
Если бы я мог визуально изобразить свое детство, оно было бы желтого цвета, как маргаритки и ромашки, росшие вокруг нашего дома. И звуки: детские игры, милитаристский шум, связанный с хунтой, льющиеся поверх этого Doors и The Rolling stones. В моем детстве Греция была сосредоточением хиппи, и я помню, как маленьким ходил и рассматривал их.

Афины — сравнительно большой город, но мы знали всех по именам. Неподалеку от дома жил дядя Стефанос, державший продуктовую лавку, рядом была еще одна, где торговали рыбой. Заходишь в лавку — там характерный запах, распятие на стене — и спрашиваешь у хозяина, как он поживает, здоровы ли дети, передаешь привет от родителей. Эти люди были богаты: магазин мог быть скромным, почти сарай, но в нем обязательно были цветы. В этом и есть цивилизация: она не только в античных бюстах, а в том, что хозяин рыбной лавки берет большую жестянку из-под оливкового масла, насыпает туда землю, и в ней растут цветы. Они обязательно есть в каждом доме, среди полной нищеты.
Цивилизация — не в факте богатства, а в его аллегории, которая находится там в ДНК.
Моя мама — музыкант, поэтому жизнь была во всем связана с музыкой. Школа была кошмарным сном, иногда мне по-прежнему снится, что нужно идти туда. Мне нравилось узнавать новое, но система!.. Дети, которые были носителями идей своих родителей, навязанный порядок, бессмысленность. Сейчас я больше люблю знание, интересуюсь вещами больше. Тогда я просил маму только забрать меня оттуда насовсем, сделать так, чтобы она всему научила меня сама.

Именно чтобы не стать снобом, я позже приложил огромное усилие к открытому общению с людьми. Хорошо, когда считаешь себя бессмертным; я думал о смерти еще с детства. Взрослея, я постарался быть другим в результате сознательного выбора. А сейчас я стараюсь соединить и осознать все то, что я есть, и смириться с этим.
Люди
Мое поколение было поколением андеграунда, мы были афинские «сложные подростки». На нашу долю выпала масса масштабных движений: афинский андеграунд был самым активным в мире, более безумным, чем берлинский. Я говорю это без преувеличения, то есть вещи, которые мы знали и делали тогда, больше не существовали нигде. Я не знаю почему. Сейчас мы с братом иногда заговариваем об этом и понимаем, что жили среди явлений, о которых в Европе тогда не знали. Но Греция оставалась собой.

С огромной отчетливостью мне запомнился один эпизод: я спешил на свидание, которое много значило для меня, и шел поздно вечером через парк. Я увидел лежащее существо, невозможно было понять, мужчина это или женщина, не то в наркотическом забытье, не то мертвое — на скамейке. На нем не было обуви, и мне бросились в глаза красные ногти, поэтому я подумал, что это женщина. Город был наводнен разного рода сомнительной публикой, к тому же я спешил — в общем, я пошел своей дорогой. Ожидая такси на выходе из парка, я вдруг понял, что не могу идти и говорить какие-то красивые вещи после того, как на моем пути был этот мертвый или умирающий человек. И я пошел обратно. Я приблизился к этой девушке, попытался с ней заговорить и очень осторожно к ней прикоснулся — грязь, зараза, СПИД, мало ли. В этот момент мимо шли какие-то деды, греческие старики лет восьмидесяти. Они увидели нас, и вот что было дальше. Один из них поднял ее, приобнял, убрал волосы, заглянул ей в лицо и начал спрашивать: «А ну, милая, что с тобой, открой глаза! Тебе плохо? Что случилось? Почему ты здесь? Ты ела? Тебе есть, где жить? Есть кто-то из близких? Куда отвести тебя?». Я стоял рядом и был в шоке. Это был очень простой человек из народа, им двигали не высокие этические соображения, он просто подошел, увидев, что это было нужно. Наше поколение много воевало, придавая значение эстетике, в то время как научиться настоящему можно было у этих людей. Этот эпизод произвел на меня очень большое впечатление.

Опубликовано в журнале Seasons of life №31. Новые и архивные выпуски можно купить в студии Seasons на Петровке, на маркетплейсах Ozon, Wildberries и у наших дистрибьюторов в разных городах.