Когда читаешь сказки Евгения Клюева, сразу и не угадаешь, когда они были написаны — сейчас или давным-давно, а может, существовали всегда? И написаны ли? Кажется, что разговоры окружающих нас вещей не придумаешь, не сочинишь, их можно только услышать. А потом, как в «Сказках Простого Карандаша», «они выпорхнули наружу и разлетелись по всему свету».

Евгений Клюев
Один из самых ярких писателей современной литературы, поэт, ученый-лингвист, лауреат престижных литературных премий, кавалер ордена Почетного Додо, автор нового перевода «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. С 1996 года года живет в Дании. Его сказки входят в школьную программу, по ним ставят спектакли в разных странах и на разных языках. В этом году в издательстве «Самокат» вышел новый сборник сказок «Сердечко, вырезанное из картона».
Под управлением Надломленной Дирижерской Палочки звучит Надломленная-Симфония-для-Надломленной-Скрипки-с-Надломленным-Оркестром для всех надломленных душ на свете. Бикфордов шнур впервые в своей короткой жизни задумывается — останавливается и смотрит вперед, туда, где будущее, и Золотая Бабочка с бабочатами оказываются спасены. «Самое главное в сказке, чтобы в ней было все не так, как в жизни» — так думает Простой Карандаш. Но ты читаешь и веришь, что в жизни только так и бывает, так должно быть, и ты всегда это знал, но почему-то забыл, когда тебе исполнилось пятнадцать? Тридцать? Или пятьдесят?

Встречаться с Евгением Васильевичем, честно говоря, я очень боялась. И не только из-за того, что до такого собеседника попробуй дотянись. Страшнее всего было разрушить в себе ощущение чуда. Вот ты уже поверил в то, что в каждой скрипучей двери скрывается скрипичная, почувствовал родственную душу в Кофейной Мельничке, которая призывает не торопиться и почаще вспоминать слово «вре-мя-пре-про-во-жде-ние», а потом вдруг выходит на сцену автор и объясняет, что все ловкость рук и никакого мошенничества.
Но мы говорили, и говорили, и становилось понятно, что все в сказках — чистая правда, настоящие чудеса, трюки здесь ни при чем, и, кстати, где же автор? Мы почтительно замолкали, когда у Евгения Васильевича били настенные часы («К часам нужно относиться с уважением», — говорил он всякий раз). Часы били, но карета так и не превратилась в тыкву.
«Бывают дни, когда все начинает превращаться во все», — говорится в одной из ваших сказок. Что это за дни? В вашей ли власти управлять вещным миром: велеть предметам рассказывать истории или, наоборот, замолчать?
С предметным миром у меня серьезные и очень глубокие отношения. Общее ощущение довольно трагичное. Если подойти к предметам очень близко, как делаю я, то приходится влезать в их шкуру — думать как какой-нибудь колченогий стол или оловянная ложка. Мир становится сюрреалистическим, и, мне даже стыдно в этом признаваться, между вещами и мной выстраиваются отношения! Я могу, например, быть всерьез зол на какой-нибудь чайник. Или случаются дни, когда я чувствую, что вещи ополчились на меня. Перед самым выходом из дома чашка с кофе падает на мои белые брюки, а они, кажется, злорадствуют. И самое печальное, что я совершенно не могу ничего со всем этим поделать.
Поэтому у меня в сказке о бикфордовом шнуре, который задумался, появляется бабочка с бабочатами. Это может свидетельствовать о том, что я, с одной стороны, человек ограниченный, а с другой — что я человек первобытный. Во мне еще не существует разделения на сферы предъявлений. И тот мир, в котором я живу, в общем, един.
И такие отношения с миром у вас с детства?
Да, но это совсем не так интересно, вернее, не так трагично, как то, что они у меня и сейчас такие. Человек должен каким-то образом развиваться, но в этой области я не развился ни в какую сторону. Я по-прежнему верю во все это. И не разумом, конечно, а теми чувствами, которых и не назовешь.
Один ваш герой, Простой Карандаш, говорит: «Хорошая сказка — простая сказка». Это так?
Да, мне интересны «простые» сказки, или сказки о простых вещах, а принцы и принцессы почему-то — нет. Наверное, это вопрос внутренних пристрастий.
Тогда я еще сказок не писал. И мне показалось, что если есть такой простой путь к сказочности — через обыденные вещи, — его надо попробовать. И у меня все очень легко стало получаться. Эти вещи начали рассказывать сказочные сюжеты, даже без моего участия. И сразу было понятно, кто хороший, а кто плохой, кто разбойник, кто герой.
Если герои-предметы исчезнут из нашего обихода, значит, сказки перестанут быть понятными и умрут?
Для меня вот большая загадка, почему «Алиса» продолжает оставаться текстом, который читают дети. Ведь речь идет даже не об устаревших предметах, а об устаревшей культуре, об устаревших стихах, шутках, словесных играх. Но при этом даже в переводе эта книга почему-то открывается современному ребенку, и он следует за Алисой.
Конечно, должны существовать сказки о вещах, вышедших из употребления. Умирают ли при этом сами сказки, я не знаю. Все живое ведь умирает. Лишать литературу истории, с моей точки зрения, уж очень неправильно. Ребенок должен каким-то образом приобщиться к той жизни, которой жили его родители, или к историчности предмета — телефонной трубке или печатной машинке.

Камень, расписанный Евгением Клюевым
Не думаю я, что тексты должны переписываться в угоду современности. Вещи будут исчезать, а я буду провожать их в последний путь. Есть предметы, которые я почему-то совсем не вижу героями сказок. Я не смог бы, например, написать сказку о смартфоне или компьютере. Боюсь, они слишком подключены к современности и, может, поэтому недостаточно поэтичны.
В ваших сказках вещи то и дело пристают друг к другу с вопросом: «А ты для чего?» Они честно ищут ответ, и ответы оказываются неожиданными. Но чаще всего, говоря вашими словами из романа «Между двух стульев», выясняется, что «самое надежное — дурацкое». Они удивляют вас, ваши герои?
В старые времена у текстологов была такая категория — «всезнающий автор». Это неплохая, в общем-то, категория, да только ты не уйдешь далеко, если все равно знаешь, чем кончится дело. Мне нравится, когда то, что я описываю, не в моей власти, когда текст важнее, чем автор. За эту идею я буду умирать. Мне кажется, что процесс письма — я буду категориями Роллана Барта пользоваться, элегантными, — должен быть в такой же степени интересен автору, в какой и читателю. А если я просто создаю голую схему, получается детективное произведение: мы не знаем, кто убийца, но точно знаем, что он здесь есть. И из этой среды не вылетишь в другое измерение, потому что таких поворотов жанр не предполагает.
Есть очень хорошая старая немецкая песня, всякий раз, когда я ее слышу, у меня в горле комок. Попробую перевести: «Мысли свободны, и они летают, где хотят. Никто не может знать о них, их не может убить ни один стрелок. Они продолжают летать». Мы не привыкли мыслить таким образом. Этой свободе мышления мне всегда хочется отдать должное, а в принципе, отдать все. Ради этого существует искусство.

Пусть предметы думают и делают что хотят, лишь бы в этом не было моего голоса, моего участия, я не помогал бы им с самоопределением. И не только предметам, но и другим, не сказочным героям. Они должны совершать неожиданные поступки, удивлять, ставить автора в тупик. А автор пусть думает: «И что же теперь с вами делать, дорогие мои?»
В одном из интервью вы как-то сказали, что недавно поняли: стихи приходят готовыми, и надо их только нащупать. А как рождаются сказки?
В стихах очень многое (и тогда стихи хорошие) диктуется звуковой логикой. Нужно уловить, куда тебя ведут звуки. Но по большому счету, если не вдаваться в теоретические тонкости, разницы между стихами и сказками или прочими текстами нет. Любой текст готов, он как бы уже существует. Нащупать его, может быть, и означает найти среди многих и многих вещей, которые тебя окружают, одну, которая тебе интересна. Неважно, стихи это или не стихи, но ты не можешь писать, если тебя это не ошарашивает. Это правила поведения в литературе.
Красноярский кукольный театр выпустил спектакль по вашей сказке «Скрипучая дверь», в котором совсем нет слов. В чем же сердцевина сказки? Что нельзя убрать из нее без того, чтобы сказка перестала существовать?
Что можно убрать из сказки, или шире — что можно убрать из текста, чтобы он продолжал оставаться текстом? Этот вопрос мне еще никто не задавал, и я, если честно, не знаю, как на него ответить. Но, видимо, существуют материи, которых пишущие люди касаются, и эти материи, больше чем текст, больше, чем слова. Меня тоже очень удивила эта театральная постановка. Я все сидел и ждал, когда появятся слова. Но по мере просмотра я начал понимать, что они не появятся, и мне уже хотелось, чтобы не появились. Я пытался определить для себя, понял бы я, что это моя сказка, если бы мне об этом не сказали. Если быть совсем честным, я бы не понял, но от этого сказка ничего не потеряла. Изобразительный ряд точнее всего отсылает к тем фундаментальным вещам, о которых даже не всегда можно сказать словами — слова могут оказаться бедными.
Вас не назовешь детским автором, и тем не менее сказки, у которых нет возрастной адресации, точно попадают в мир ребенка. Можете ли вы объяснить почему?
Мне важно попадание в детскую среду, но не любой ценой. Хороший текст должен быть многоплановым (я не про свои тексты сейчас, это для меня вообще определение хорошего текста). И если это так, то и дети, и взрослые могут найти в нем что-то для себя. Я пытаюсь идти этим путем. И мне важно сохранить в сказках вневозрастные вещи, без оглядки на то, будут они понятны ребенку или нет.
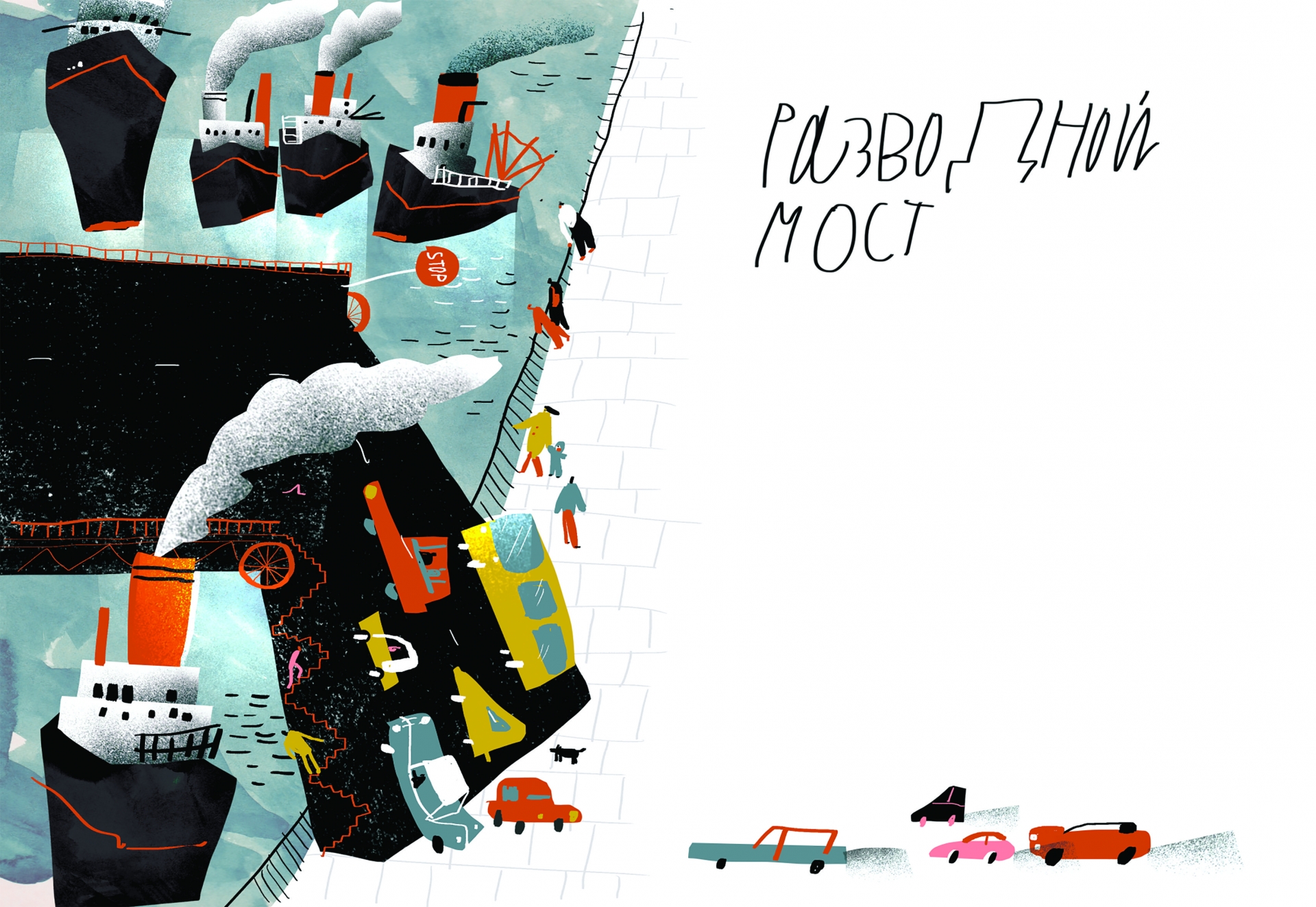
С другой стороны, жизнь в Дании учит меня тому, что не существует вопросов, которые нельзя обсудить с детьми. Все возможно, любыми словами. Для меня важна реакция: признает ли текст ребенок за свой, понимает ли он, что это не только его, но и его тоже. Мир ребенка гораздо глубже, чем взрослого. И не только потому, что дети восприимчивее. Они фиксируют будущее и сами создают программу, что детское, а что нет, о чем нам писать или не писать.
В одной из сказок деревянная лошадка служит маяком заблудившимся в море пожилым кораблям. Есть ли у вас такой маяк?
Знаете, я оказался в такой стране, где взгляд на ребенка совсем другой. Здесь проявления детского во взрослом считаются неприличными и сравнить человека с ребенком, значит его очень обидеть. Мне, кстати, часто так говорят и напоминают, сколько мне лет на самом деле. Переживаю ли я по этому поводу? Нет, как, впрочем, и из-за своего почтенного возраста.
Мне хотелось бы, чтобы перспектива становления сохранялась в людях, независимо от того, сколько им лет. И я, простите за откровенность, радуюсь тому, что я еще не вполне сформировался как человек, я продолжаю формироваться, и Бог знает, куда меня это может завести.
Опубликовано в журнале Seasons of life, выпуск 59
Архивные номера и новые выпуски в онлайн-магазине






