Текст: Светлана Сидорова
Круглый год нас тянет к морю, мы мечтаем жить у большой воды, верим, что нужно выпивать по шесть стаканов в день и почти на 70% состоим из нее. Вода всюду, жизнь без нее невозможна. Как и без любви.
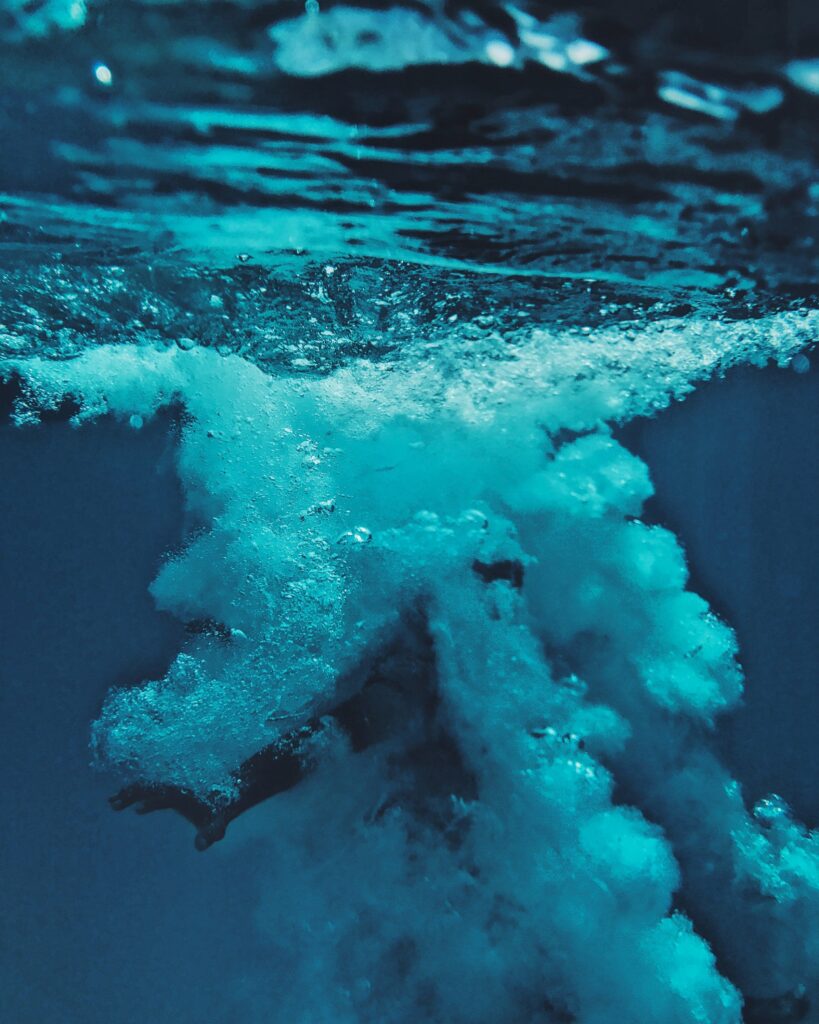
Перед вами 31 цитата, каждая из которых прямое доказательство того, что вода — самая точная (из возможных) метафора любви. Давайте покачаемся на волнах литературных образов и пойдем чуть глубже вслед за ароматом романтических путешествий.
«Любовная любовь — вода…»
Марина Цветаева — Абраму Вишняку
Подобно Протею, она изменчива и принимает разные формы: льда, снега, росы, слезы, дождя, водопада, реки, океана, кучевого облака, тумана, чернил, вина, снега, капéли, поцелуя.
Где она живет? В океанических впадинах, в огромных морских чашах, на вершинах гор, в небе, прячется в водопроводном кране, заливается в морскую раковину и хоронится в капле, покоится в стакане, в лейке, стучится в двери и окна дождем, затопляет комнату, растекаясь в ней морем, океаном, а потом высыхает и сворачивается лужицей на паркете. Извивается змеей в потоке слов, в стихах и в прозе. Так к ней можно возвращаться в любое время года, в любое время суток, в любом уголке света.

«Милая Пикл, моя любовь, я подумал о катере вновь, и о темно-синих, почти фиолетовых струях Гольфстрима, вихрящихся в водоворотах по краям течения, и о дуге полета летучей рыбы, и о нас, как мы в шортах стоим у штурвала катера, летящего по глади моря, а ночью, бросив якорь точно за грядой рифов у Параисо, где море с глухим рокотом бьется о теплый песок подковы отмели, катер прочно стоит на якоре, а мы лежим, объятые внутренним пламенем, без движения, нас нежно несет течение, и мы лежим рядом и чувствуем соприкосновение наших ног, и пьем переливающееся через край высокого бокала кокосовое молоко, джин с лимонным соком, а далеко справа виднеется тонкая оправа картины голубых холмов, и я говорю: «Пикл, у тебя, наверное, просто нет слов?»
Эрнест Хемингуэй к Мэри Уэлш. 18 ноября 1944 г. (в переводе Виктора Погостина)

Вода – существо. Тонкое и могущественное, как водопад, жестокое и своенравное, как океан, невозмутимое и таинственное, как море, спокойное и гладкое, как озеро, неостановимое и прозрачное, как река. Но чего в ней больше? Мужского или женского?
«Мысленно он всегда звал море la mar, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине, в женском роде. Рыбаки помоложе, из тех, кто пользуется буями вместо поплавков для своих снастей и ходит на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море el mar, то есть в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порою даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, — что поделаешь, такова уж ее природа. «Луна волнует море, как женщину», — думал старик».
Эрнест Хемингуэй. Старик и море (в переводе Елены Голышевой и Бориса Изакова)

На первый взгляд кажется, что вода — извечный знак женщины:
«Иногда думаю о себе, что я — вода. Налейте в море — будет морем, налейте в стакан — будет стаканом. Дело вместимости сосуда — и: жажды!»
Марина Цветаева. Из сводных тетрадей, июль 1923 г.
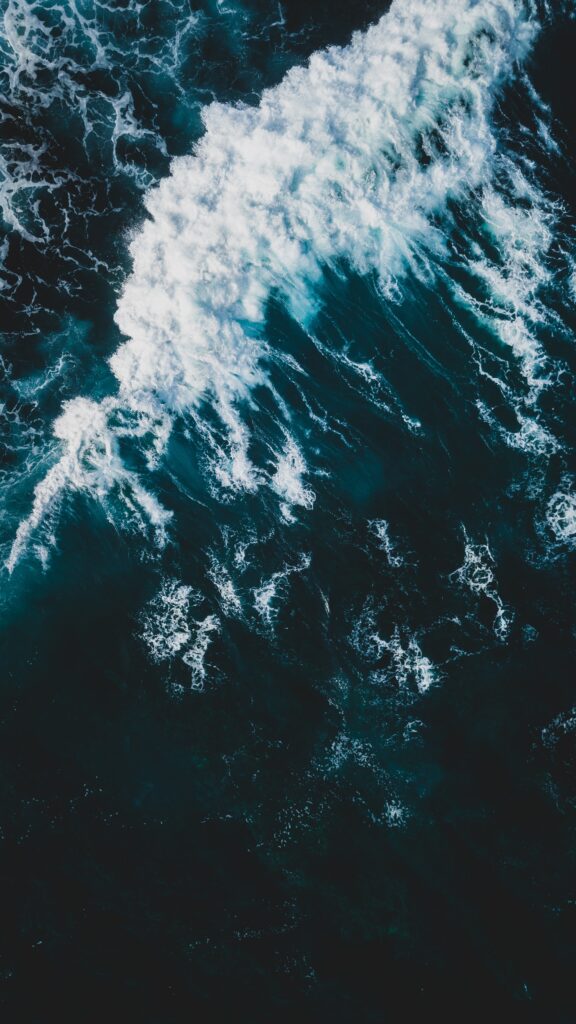
Вода меняет цвет и фактуру вслед за настроением женщины, пенится, как ее ревность, растекается гладью, как ее нежность. Все краски и настроения женщины собираются и отражаются в воде:
«Внизу между рядами высоких рифов волнуется и шумит с грохотом горной реки пепельного цвета море. С высоты моего выщербленного скального убежища я могу наблюдать за домом, укрытым тёмным лакированным плющом. Жан сидит на террасе. Он читает, подперев лоб кулаками, как школьник. Он не придёт сюда, и у меня есть время успокоиться. Я жую горькую травинку, от которой слюна приобретает вкус самшита и скипидара. Горячий ветер сушит капли морской воды на моих руках и щеках. Пока я шла по тропинке, я обрывала веточки дрока, и на пальцах остался терпкий зелёный сок. Я несу в себе и на себе запахи и привкус, соль и горечь моей ревности».
Сидони-Габриель Колетт. Невинная распутница (в переводе Елены Мурашкинцевой)
Она освежает, освящает собой, стремится, изливается, затапливает, выходит из берегов:
«Моя тихая без-без-без-без-безбрежная прелесть. О радость моя, чего тебе стоит быть такой, какой ты рождена. Милое мое туманящее, колеблющее и к горлу подступающее сокровище, ведь это ты можешь быть и должна быть вечною моей умывающейся красавицей… Будь собой, не останавливайся в душевном росте, не связывай колебаний, присущих тебе как звуку из звуков и волне среди волн…»
Борис Пастернак — Евгении Пастернак. 20-21 мая 1924 г. Москва

В воду, в женщину, как в саму любовь, можно входить, бросаться, ее можно слушать, ее можно цедить, как слова, в поисках нужного, в поисках золотого…
«И кто-нибудь будет безумно любить ее, как этот Фауст в опере, весь полный музыки и муки, седеющий и весь в черном. Он всю ее начиная с ног будет покрывать поцелуями, и она как в море будет медленно входить в это обожание. Леденящий уровень будет подниматься медленно до замирания. Вот этот холод под самым сердцем. Вот он двинулся выше, надо поднять голову и вытянуть руки. Отчего говорят «тело». Ведь целуют не руки, а положение рук. Целуют повороты, изгибы. Целуют движения, целуют жизнь, а не мясо».
Борис Пастернак. Доктор Живаго (карандашная рукопись)
Женщина, как вода, как любовь, наполняет собой мужчину. И поднимает бурю в его сердце. А, разрушив все преграды и перегородки, отступает, как отлив. Отсюда у мужчины и тяга к женщине-воде, и извечный страх перед ней:
«Осчастливить меня могут только тихие письма; я бы так и сидел у их ног, счастливый без меры, это как дождь на пылающую голову. Но когда приходят те, другие письма – …тогда, Милена, я в самом деле начинаю дрожать, будто при звуках штормового колокола, я не могу это читать и все же, конечно, читаю, как пьет воду измученный жаждой зверь, а страх все растет, что делать, я ищу, под какой стол или шкаф заползти, забиваюсь в угол и молюсь, весь дрожа и теряя голову, молюсь, чтобы ты, бурей ворвавшаяся ко мне с этим письмом, снова улетела через распахнутое окно, ведь не могу же я держать в комнате бурю; мне мнится, в таких письмах у тебя блистательная голова Медузы, змеи ужаса извиваются вокруг нее – а вокруг моей, понятно, еще исступленней вьются змеи страха».
Франц Кафка. Письма к Милене (в переводе Альберта Карельского)
Проникая в мужчину, женщина-вода находит там укромный уголок и ждет своего часа:
«Грэй несколько раз приходил смотреть эту картину. Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. Там, сея за кормой пену, двигались корабли».
Александр Грин. Алые паруса

Вселяясь в мужчину, вода примеривает на себя разные имена. Океан — он. Река — она. Море – оно. Неведомое, непостижимое море, способное быть андрогином:
«Я буду учиться морю. Ссылаю себя, Борис, в учение. Дюны, огромный пляж — и ОНО. (Не море, а вообще оно, неведомое.)… Твое — море, мое — горы. Давай поделим и отсюда будем смотреть. Я буду учиться морю со всей честностью и точностью, потому что это — учиться тебе. И в тебя я еду на поиски, а не в Вандею».
Марина Цветаева – Борису Пастернаку, 6 апреля 1926 г.
Мужское и женское затевают в воде игру в прятки. Подчиняясь силе внушения воды, мужчина верит гипнозу и чует в себе водное начало:
Не принимай меня за то, что я не есть, мне мало нужно, знать, например, что через столько-то месяцев я тебя увижу. Но знать. Ждать… Я плечами, и грудью, и головою чувствую себя рекою, которая не что иное, как ПЛОВЕЦ, несущая других пловцов. В Мёдоне нет реки, и в Мёдоне я не река, меня застояли.
Борис Пастернак – Марине Цветаевой. 15 октября 1927 г.
Вода одаривает мужчину влажной радостью:
«Ты дала мне столько радости, смеха, нежности и даже поводов иначе относиться к жизни, чем было у меня раньше, что я стою, как в цветах и волнах, а над головой птичья стая».
Александр Грин – Нине Грин. 7 марта 1927. Город Феодосия.

В мужчине, как в доме, живет женщина-море:
«Мужчина, родина моя, ты, значит, так и остаёшься главной моей заботой? Что же, я не против. Но только умрите здесь, заботы, малые летние влюблённости, умрите одновременно с тенью, что окружала мою лампу, – до меня докатывается рвущая свою нить крупного круглого жемчуга горделивая песня дрозда. Ещё сохраняющий ночную свежесть аромат сосен скоро рассеется в луч неумолимого солнца. Прекрасный час для того, чтобы войти в не совсем проснувшееся море, где каждое движение моих голых ног рвёт на поверхности, окрашенной в тяжёлый синий цвет воды, плёнку розовой эмали, и собирать водоросли для подстилки, которой я хочу защитить подножие молодых мандариновых деревьев!..»
Сидони-Габриель Колетт. Рождение дня (в переводе Валерия Никитина)

Женщина расстилает водную поверхность для его корабля снов, словно натягивает шелковую простыню на постель и взбивает, как подушки, волны:
«Какой я счастливый, каким ты делаешь меня счастливым!.. все я могу вынести – с тобой в сердце: и если я однажды написал, что дни без твоих писем были ужасны, то это неверно, они были лишь ужасно тяжелы – лодка была тяжела, погруженная в волны ужасно глубоко, до краев, но плыла все-таки на твоих волнах, в твоем потоке».
Франц Кафка. Письма к Милене (в переводе Альберта Карельского)
Блуждать мужчине по морю — все равно что путешествовать в мыслях женщины — путаться в морских водорослях, как в ее волосах, задыхаться от зноя женского дыхания и не сметь прикоснуться к соленой, как слезы женщины, воде:
«Прикажите построить для меня крепкую лодку с парусом, которым я смогу управлять по своему желанию, и шелковым пологом, что послужит мне защитой от солнца и дождя. Потом прикажите нагрузить ее съестными припасами, чтобы было мне чем поддержать себя в долгом плаванье. И еще положите туда мою арфу, роту и все мои инструменты. Когда все будет готово, поставьте туда мое ложе, перенесите меня на него и отпустите лодку в море. И я поплыву по нему, одинокий и всеми забытый».
Пьер Шампион. Роман о Тристане и Изольде (в переводе Юрия Стефанова)
Женщина поет ему колыбельные, как сирена или морская раковина, зовет его с собой в сновидения:
«… и вот тебя зовет Милена, и голос ее с равной силой проникает в разум и сердце. Милена, конечно, тебя не знает, несколько твоих рассказов и писем ослепили ее; она как море – в ней та же сила, что и в море с его водной громадой, но в неведении своем эта стихия обрушивается на тебя всей своей мощью, повинуясь воле мертвой, а главное, далекой луны. Она тебя не знает, но, возможно, предчувствует истину, когда зовет тебя. Ведь в том, что твое реальное присутствие уже не ослепит ее, ты можешь быть уверен. Не потому ли, трепетная душа, ты не хочешь прийти на зов, что именно этого и боишься?»
Франц Кафка. Письма к Милене (в переводе Альберта Карельского)

Она затопляет мужские сны архетипом анимы, и мужчина погружается в неё, как в реку:
Этой ночью я искал твои губы в чужих губах
и почти поверил в то, что отыскал тебя,
ибо, слепец, я знаю: то, что влечет меня к женщине, — это река;
но какая тоска – добраться до берега сновидения
и понять: наслаждение – жалкий раб,
получивший фальшивую монету.
Хулио Кортасар. После таких удовольствий (в переводе Виктора Андреева)
Пробуждаясь, мужчина тоскует по ней, как тоскует по воде путешественник, вернувшийся с чудесных островов:
«Позволь мне долго-долго вдыхать запах твоих волос, погрузиться в них всем лицом, словно истомленный путник, что припадает к воде ручья, и встряхивать их, словно душистое покрывало, чтобы в воздухе рассыпались воспоминания…
В твоих волосах — воплощенная мечта, что заключает в себе паруса и снасти, и огромное море, чьи ветры уносят меня в чудесные земли, где пространство еще более синее и глубокое, где воздух благоухает ароматами фруктов, листьев и человеческой кожи.
В океане твоих волос я смутно различаю далекий город, полный меланхолических напевов, крепких сильных людей всех наций и кораблей самых разных форм, что врезаются своими тонкими и причудливыми очертаниями в распахнутые небеса, где нежится вечное лето».
Шарль Бодлер. Полмира в волосах (в переводе Татьяны Источниковой)

Присутствие женщины и по пробуждении пьянит мужчину, ее дыхание напоминает ему о любовном напитке, выпитом на призрачном корабле:
«Оно и в самом деле было вином, но было к нему подмешано колдовское зелье. И Тристан осушил полную чашу и приказал, чтобы налили этого вина Изольде. Ей подали чашу, и она выпила. О боже, что за напиток!»
Пьер Шампион. Роман о Тристане и Изольде (в переводе Юрия Стефанова)
Эта чудесная вода остаётся у любовников на губах, застывая морскими кристаллами:
«Смысл жизни имеет вкус поцелуя. Там мое рождение. Я оттуда.
Она наклонилась ко мне, но по ее лицу, которое между тем было так близко сейчас, я не мог понять: оно ли, то, настоящее, наконец, или она просто давала мне напиться. И вдруг, в каком-то стремительном порыве, она обняла меня, прижав к себе, совсем как там, на дне моей памяти».
Ромен Гари. Свет женщины (в переводе Нины Калягиной)
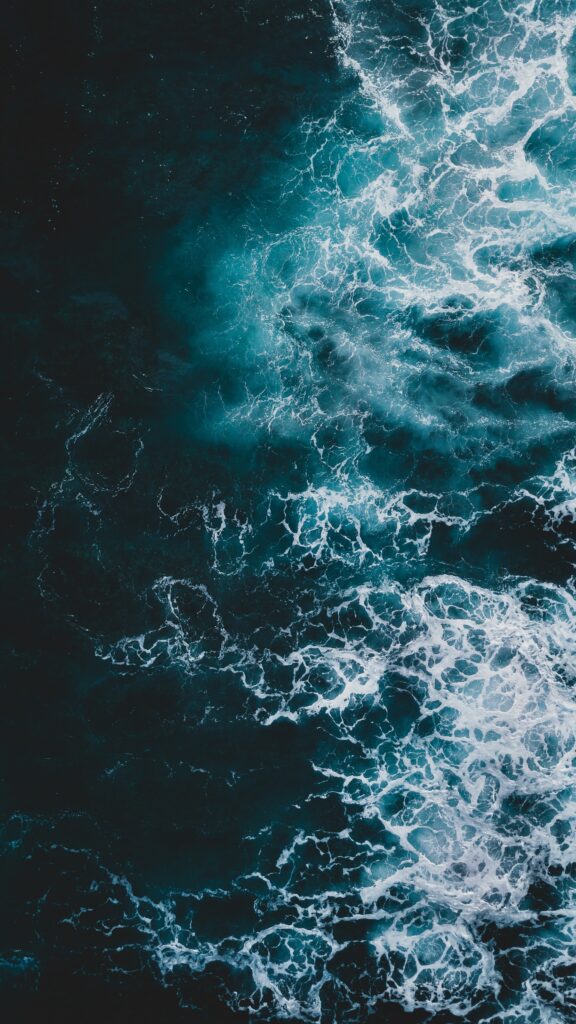
И пловцы любви сами становятся морем:
Мы выпили моря, но, водам вопреки,
Рты наши запеклись, сухие, как пески,
И море ищем вновь, не разглядев из тьмы,
Что наши рты – пески, а море – это мы.
Аттар (в переводе Бориса Дубина)

Море оседает в них песком воспоминаний и взрывается фонтаном целительных брызг в засушливые дни:
«Любимейшее создание, скоротечное и вечное, как одно сердцебиение, небо над небольшим обозом по-цыгански кочующих чувств – небо, как на картине Ван-Гога в Лувре, — любимая, с тобой было замечательно! Это целое лето, полное света, и моря, и планов, и молодости! Мы заряжали молодостью друг друга, нежная, молодостью и живостью чувств, и будущее снова превращалось в узду, натянутую в наших руках, в светлый и долгий путь цугом в неизвестность и в будущее… Ты ушла, как судно беззвучно отчаливает от берега – нагружено ценным грузом и получившее за долгие летние месяцы в доке бережный уход заботливых рук, теперь оно бежит на раздутых добрым ветром парусах…»
Эрих Мария Ремарк – Марлен Дитрих, из Парижа 28 ноября 1938 г. (в переводе Евгения Факторовича)
Вода учит переживать расстояния, удлинять и сокращать минуты и дни, ценить связи, выставлять маяки, учит терпеть, учит ждать:
«Как же много зависит, думала Лили Бриско, глядя на море — почти без единого пятнышка и такое тихое, что лодки и облака будто застыли в лазури, — как же много зависит, она думала, от расстояния: близко ли от тебя человек или он далеко. Ее отношение к мистеру Рэмзи менялось, покуда он дальше и дальше плыл через бухту. Как-то разрежалось, растягивалось; он становился более и более дальним».
Вирджиния Вулф. На маяк (в переводе Елены Суриц)

Вода дарит союзникам любви чувство времени:
«Я не жду голой девы верхом на раковине; я жду облака или гребня волны, бьющей в берег в полночь. Для меня это и есть время, выходящее из воды, и я гляжу на кружевной рисунок, оставленный на берегу, не с цыганской проницательностью, а с нежностью и благодарностью».
Иосиф Бродский. Набережная неисцелимых (в переводе Григория Дашевского)
Отныне они знают, где прячется время, в какой щели, в каком зазоре:
«Знаешь, чем здесь хорошо? Смотри: вот мы идем и оставляем следы на песке, отчетливые, глубокие. А завтра ты встанешь, посмотришь на берег и ничего не найдешь, никаких следов, ни малейших отметин. За ночь все сотрет море и слижет прибой. Словно никто и не проходил. Словно нас и не было. Если есть на свете место, где тебя нет, то это место здесь. Уже не земля, но еще и не море. Не мнимая жизнь, но и не настоящая. Время. Проходящее время. И все. Идеальное убежище. Здесь мы невидимы для врагов. Чисты и прозрачны».
Алессандро Барикко. Море-океан (в переводе Геннадия Киселева)

Стареет ли вода? Ее морщины и складки – свидетельство неувядающей красоты. Помнит ли она о тех, кто доверяет ей свои любовные тайны, сохраняет ли в себе их черты?
Любовь – ракушка, остаются в ней
воспоминанья: образы и звуки;
они всего реальнее – в разлуке:
вдали от моря моря шум слышней.
Хулио Кортасар. Сонет (в переводе Виктора Андреева)

Голос воды, откуда бы он ни приходил, превращает мгновение жизни в каплю бессмертия:
«Если представить, что жизнь, подобно чаше, покоится на каком-то основании и что чаша эта все наполняется и наполняется… то в основе моей жизни, бесспорно, лежит именно это воспоминание: детская в доме в Сент-Айвз, кроватка за желтой шторой – ты лежишь, то ли спишь, то ли бодрствуешь – и слышишь, как волны набатом – раз-два, раз-два, а потом брызги дробью вдоль берега, и потом снова удар – раз-два, раз-два, и потом снова удар – раз-два, раз-два. Слышно, как ветер надувает желтую штору, и та колышется, таща за собой по полу небольшое грузило в виде желудя. Невообразимый, чистейший восторг: лежать, слушать волну, видеть свет, знать про себя, что это почти невероятно – быть здесь…»
Вирджиния Вулф. Зарисовка прошлого (в переводе Натальи Рейнгольд)
Тем, кто странствует по воде, она дарит ощущение тверди и незыблемости мира в собственном теле:
«Хлеб и соль, вино и вода, лед и пламя, нас двое, и каждый другому земля, и каждый другому солнце… Наши ночи были островами. Мои губы свободно гуляли по пустынным пляжам горячего тела. Я боролся со сном: этот воришка отнимал у меня бесценные минуты».
Ромен Гари. Свет женщины (в переводе Нины Калягиной)

Морская вода преображает предметы и вещи, подаренные ей однажды, и делает их драгоценными, наделяет волшебными свойствами, возвращая правообладателям спустя время:
«Ах да, я забыла про ракушки. Ты помнишь о них? Ведь ты сердился на меня, за что? За эту открытую рану, которой была наша страсть, за это и я сердилась на тебя. Тогда мы упали на эти жуткие ракушки, засунули их себе в уши, чтобы не слышать больше себя, на самом деле, чтобы больше не слышать морского прибоя, прибоя любви и наших пронзительных голосов, пытавшихся перекричать ветер.
Значит, эти ракушки остались там, на месте, или наши сильные губительные руки отшвырнули их, когда мы вместе решили, поняв, что стали слепыми, глухонемыми и грустными, что ракушки нелепы. Я завещаю их тебе. Они по-прежнему на пляже, дожидаются тебя. Я делаю тебе прекрасный подарок. Я бы сама не отказалась пойти на этот пляж, где лил такой дождь, где нам так не понравилась, где все пошло наперекос.
Больше я ничего тебе не завещаю».
Франсуаза Саган. Прощальное письмо (в переводе Александра Щедрова)
Море учит людей новому языку любви, в котором нет собственнического, нет закупоренного, тесного:
«В нашей таверне живет постоялец с нелепым именем. Он ищет то место, где кончается море. На днях, пока я ждала тебя, я рассказала ему о нас, о том, что я боюсь твоего приезда и хочу, чтобы ты приехал. Человек он добрый и кроткий. Он долго слушал меня. А потом сказал: «Напишите ему». Он говорит, что если кого-то очень ждешь, лучше всего написать этому человеку, чтобы не мучиться. И я тебе написала. Все, что накопилось у меня внутри, я вложила в это письмо. Человек с нелепым именем говорит, что ты поймешь. Он говорит, что ты прочтешь мое письмо и пойдешь к морю, и там, на берегу, ты все обдумаешь и поймешь. Пройдет час или день — не важно. Ты вернешься в таверну. Он говорит, что ты поднимешься по лестнице, откроешь мою дверь и, не сказав ни слова, заключишь меня в свои объятия и поцелуешь».
Алессандро Барикко. Море-океан (в переводе Геннадия Киселева)
Равноправные, они строят в своем воображении новый дом, дом у моря:
«Мы захмелели от пьянящего морского воздуха, который мешает заснуть в первые ночи, будоражит кровь и продлевает часы любви в комнате, озарённой лихорадочным синим светом полной луны…
Всё здесь оказалось для меня ново и неузнаваемо: вкус соли на губах Жана и на моих тоже, в полдень – дуновение западного ветра, несущего запах приоткрытых ракушек и ароматы прогретой земли и пересохшего сена, когда он вдруг поворачивает и начинает дуть с материка. Водоросли, устрицы, перламутр раковин, злобные крабы, вода, ледяными браслетами стискивающая сперва щиколотки, а потом и колени. И, наконец, сам Жан, одно из самых больших моих удивлений, ласковый и полуголый, как фавн… Каждое утро он спускался к морю, провожаемый моим обожающим взглядом. Чуть раскачиваясь, шёл он вниз, и лёгкие тени муаровыми отсветами играли на его бёдрах и на великолепном мускулистом треугольном торсе, какой можно увидеть только у совершенных мраморных статуй».
Сидони-Габриель Колетт. Невинная распутница (в переводе Елены Мурашкинцевой)

И пишут в нем новую историю любви, как новую историю воды:
«Дом, где я пишу сейчас, стоит на берегу моря, и я слушаю шепот его волн. Слушаю внимательно, потому что он исходит из глубины веков. Возможно, появятся новые миры, голоса, которых еще никто не слышал, другое счастье, не то, что живет во вкусе поцелуя, и радость, доселе неизведанная, и полнота жизни, для которой мало света женщины, возможно, но я-то живу седым эхом нашего старого мира. Мы всегда живем тем, что не может умереть. Ночи приходят с миром и ненадолго приобщают меня к ее сну. Как только опускаются мои веки, все опять становится таким, каким было. А днем мой брат Океан составляет мне компанию: только у Океана тот голос, которым можно говорить во имя человека».
Ромен Гари. Свет женщины (в переводе Нины Калягиной)










