Текст: Ляля Кандаурова
Иллюстрации: Екатерина Сергеева
Есть время, когда дом расцветает, как обрадованный солнцу душистый куст. Облака заглядывают в окна, ливни плещут по подоконникам и дома по-особому, по-новому дышится. Ляля Кандаурова — о магическом ритуале уборки.
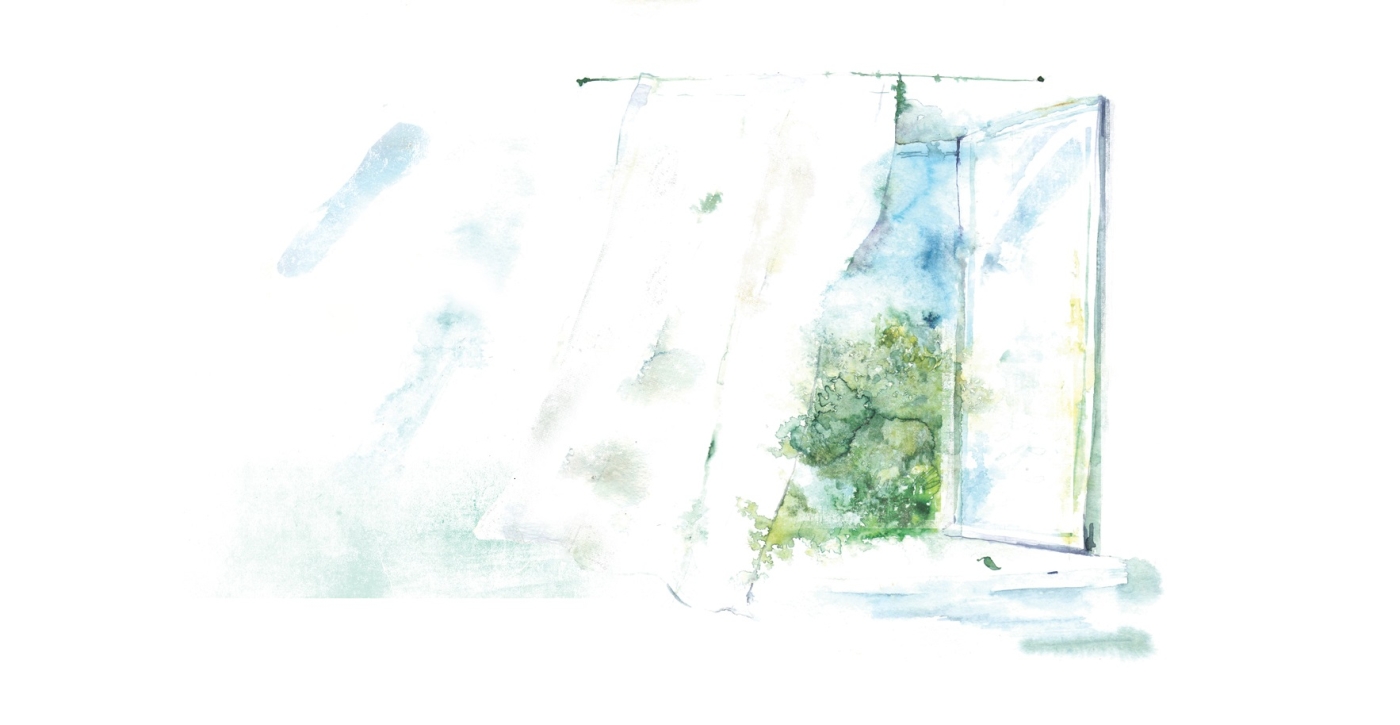
Чистота пахнет всем белым, что есть в мире, немного — ледяными сливками, немного — пуховым снегопадом, немного — выкусом яблока, сахарной мякотью, которую пробивает ознобом от собственной коралловой белизны. Это скрипящий от прикосновения, почти светящийся кафель, запах мытых окон — химическая сирень и грустный, пухлый запах мокрой газеты.
Балкон превращается в прорентгененный солнцем гигантский фужер, лученосную сферу, на него выходишь — как на смотровую. Он такой чистый, что похож на костистую готическую часовню, состоящую из одних окон и растворившую свои витражи в небесной щелочи.
Уборка — это хрустальная девственность зеркал, пахнущих арбузной коркой. Это влажный паркет, едва ощутимо отдающий самым дешевым шампунем «с экстрактами трав»: почти полбутылки его шло в цинковое ведро, куда затем с грохотом обрушивалась струя горячей воды. Наполняясь, оно беззвучно перекипало радужными пузырями, как гигантский клоунский стакан с раствором для выдувания мыльных фигур; из открытой двери балкона впархивал холодный цветочный ветер, смахивавший с ведра на мокрый пол прибойную пену; она тихо таяла и пахла ромашкой; «дай пятки» — и тряпка проходилась по моим светлым холодным ступням, и отскобленный пол горел, как кожа после бани.
Запах чистого постельного белья, на которое бросаешься с разбегу; наволочка целует тебя в обе щеки, не можешь ею надышаться: снова, снова, досыта наливаешь полную грудь холодного, немного ландышевого запаха, ныряешь в подушку, в бесконечный тоннель густой белизны, кремовой, как отделившийся от сыворотки творог.
В какой-то момент у нас не было стиральной машины, и мама полоскала постельное белье в ванне, которая прежде мылась до стерильности.

После уборки непременно стирались тряпки: обесцвеченные от усилий, они сохнут на пустом ведре, в них угадываются велосипедки с далматинцами, из которых я уже выросла, запечатленные на фотографии конца девяностых: я несмело улыбаюсь на фоне башен-близнецов, тихо смущаясь своих совсем новых, непропорционально больших, круглых резцов. Запах этих тряпок — тотчас же моя школа: влажный, давно расставшийся с лаком паркет в пустой рекреации. На нем засыхают, бледнея, мокрые восьмерки от квадратного куска материи, намотанного на палку с перекладиной, в которой есть что-то неуловимо хоругвеносное.
Краны блещут жарко, как на параде, и пахнут нашатырем, и это — сразу летний полдень, воздух, медленно бурлящий от солнечной патоки, меня укачало, все затягивается светлой паутиной, тянучей, как молодой мед: нужно дышать омерзительно пахнущей ваткой, которая бесцеремонно возвращает меня из полуобморока, из звукоизолированного и безмятежного мрака. Мне страшно хочется уплыть в него, потому что он сулит избавление от дурноты, но ватку пихают к носу, и каждый вдох огорошивает меня, как пощечиной. Уборка — это еще и запах слабого уксусного раствора, которым мнительная мама мыла принесенные с черемушкинского рынка фрукты — вода наливалась в неподъемные эмалированные миски, где поплавками висели абрикосы и персики, и их ворсистые спинки покрывались перламутровым панцирем из воздушных пузырьков.
В мире, где медленно, крупно, как затонувшая бригантина в буре акварели, раскачивалась от ветра сушилка, отягощенная мокрыми простынями, где белые деревянные подоконники пахли грибным лесом, а сырая вагонка лоджии трескалась тут и там от нектара — как мало было нужно для индульгенции, как бесконечно много — чтобы запачкаться; «чис-то-тел» — повторяю я про себя, и руки пахнут прогулкой: песочницей, жеваными стеблями, металлическими качелями. «Марш в ванную, ничего не трогай».












